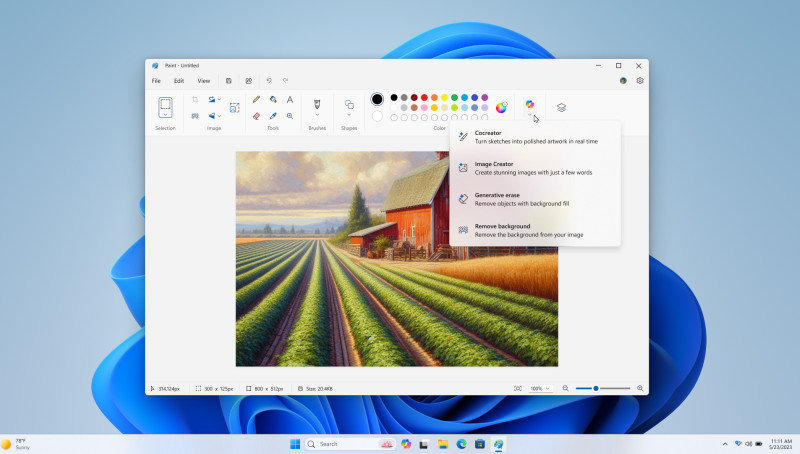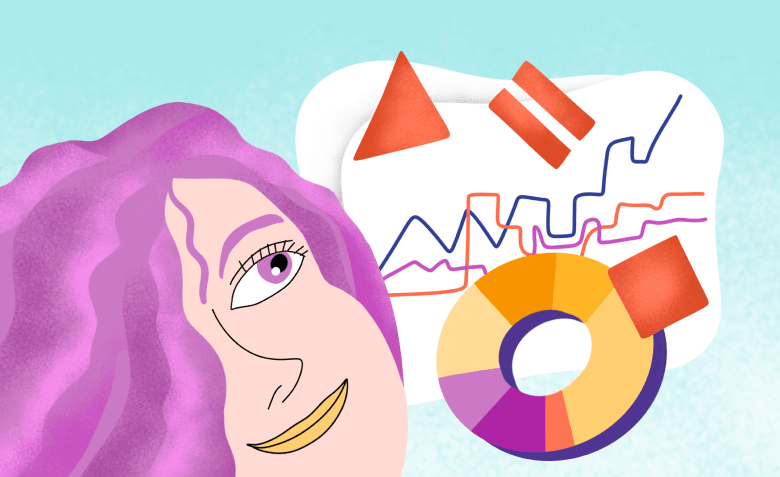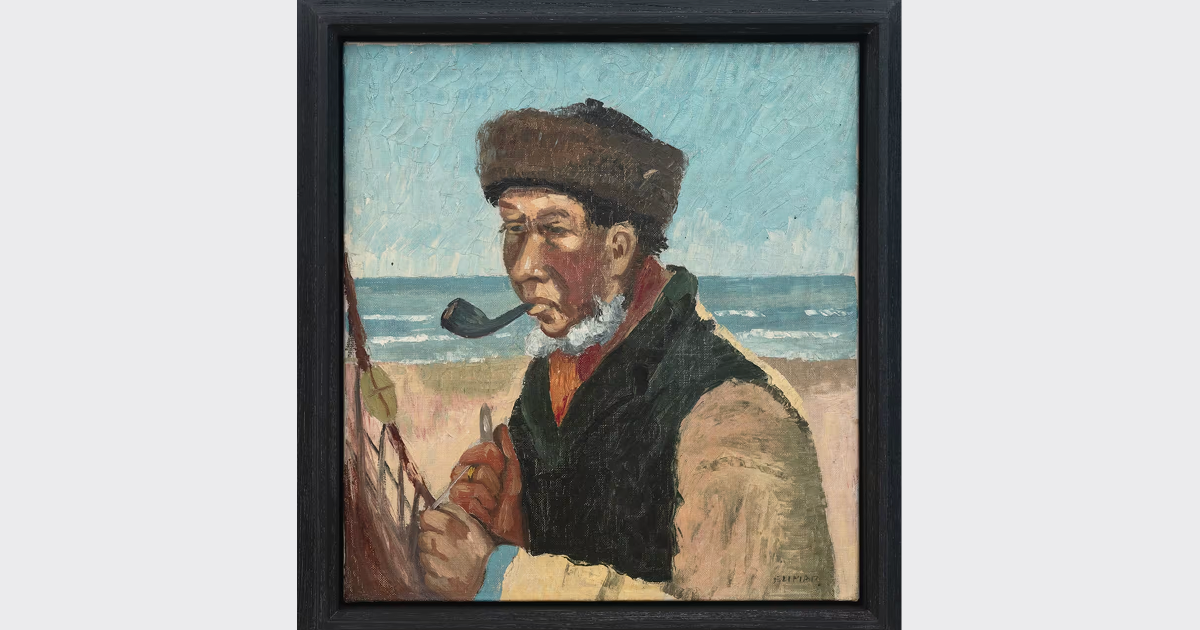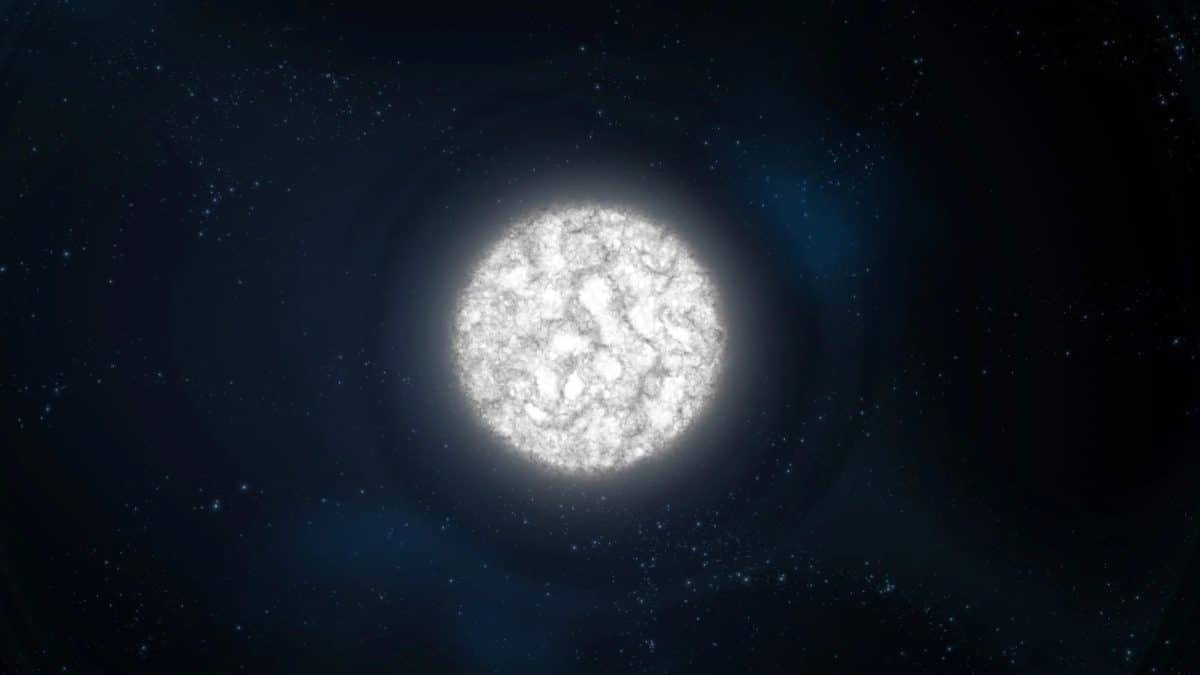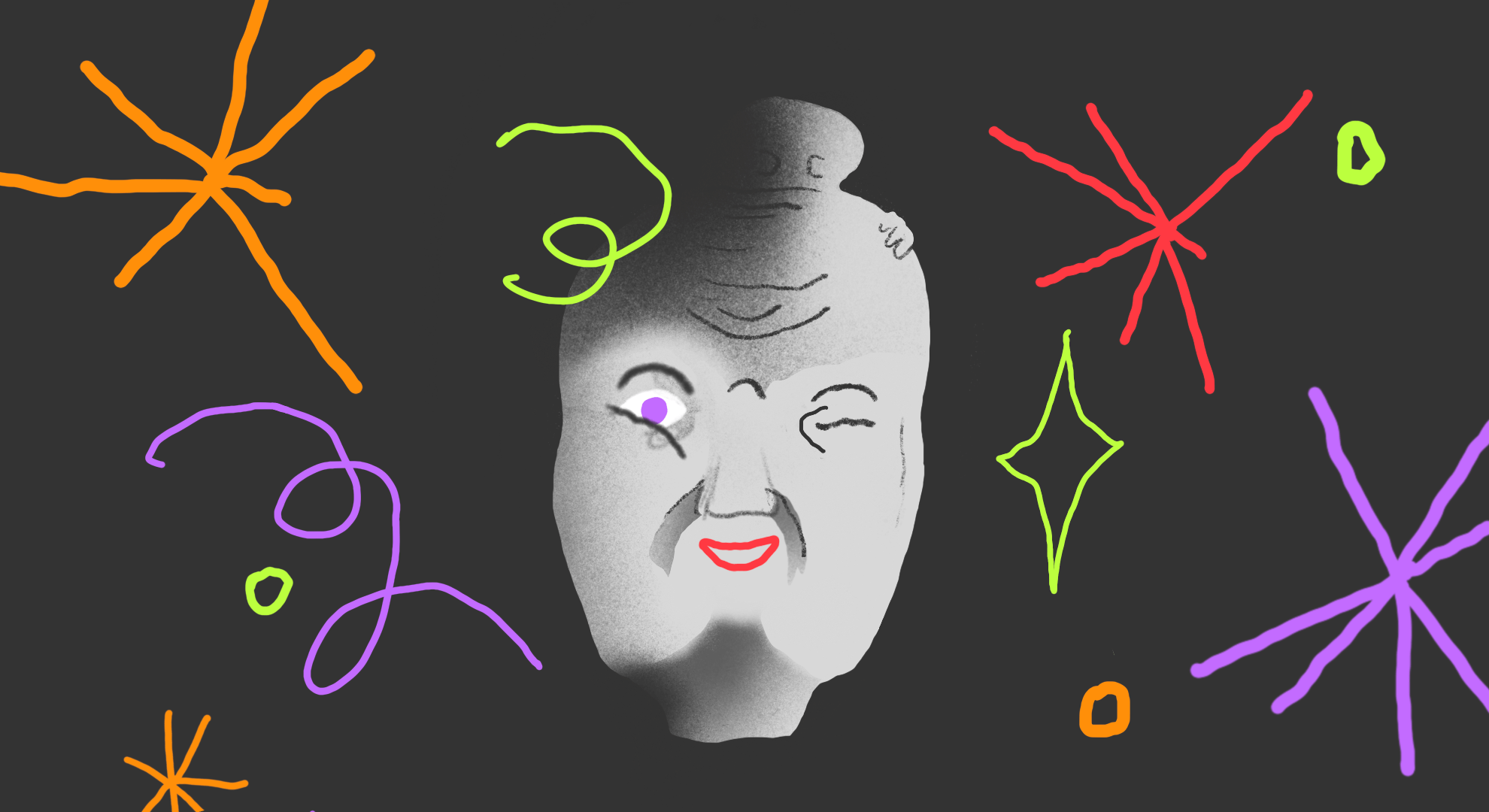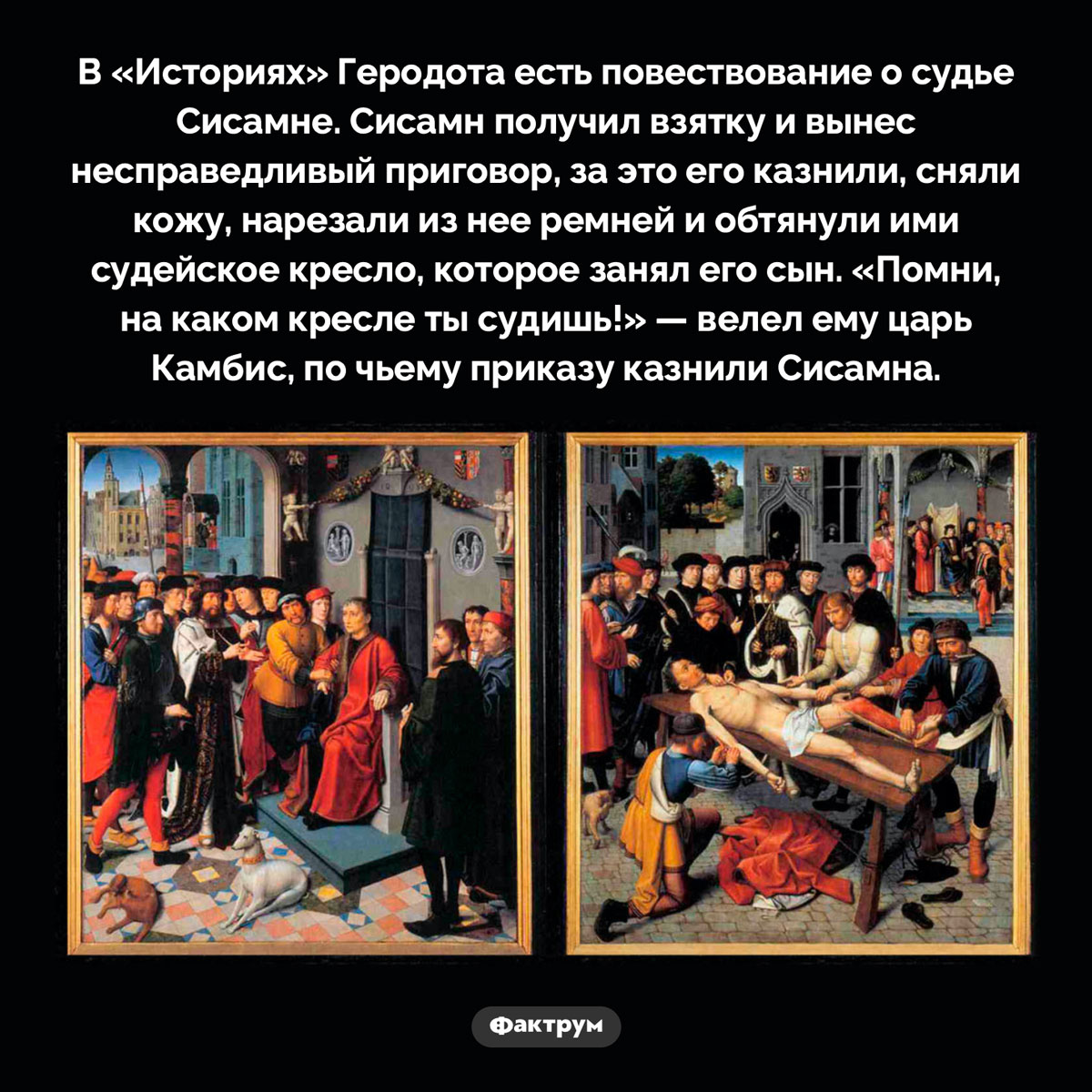Социальное проектирование. Облако смыслов (лекция 4)
Начало здесь. Давайте коснемся такого важного вопроса: в каком виде существует социальный проект (проект развития социальной системы, политический проект)?Банальный ответ так и напрашивается – в виде партийной или предвыборной программы, пафосного манифеста, государственного декрета, коалиционной декларации, плана реформ типа «500 дней». Люди старше 50 лет хорошо должны помнить это название. Но – нет. В кодифицированном виде социальный проект не может существовать в принципе.Попробуйте найти, например, план построения социализма в СССР. Нет такого. Может, вы найдете предвыборную программу большевиков? Они один единственный раз в жизни участвовали в конкурентных выборах в Учредительное собрание. Но даже в этом случае сочинением программы себя утруждать не стали. В любом случае все вышеперечисленное относится к сфере политического популизма – это чисто утилитарный инструмент по навязыванию воли политического субъекта объекту управления – обществу.ВОПЛОЩАЕТСЯ ИДЕЯ, А НЕ ПЛАН. Четко сформулированного и утвержденного голосованием социального проекта не может существовать хотя бы по чисто технической причине. В данном случае мы имеем дело с динамической системой субъект-объект-среда.Элита – носитель социального проекта – управляющий субъект, общество – объект управления, а среда – это те условия, в которых существуют объект и действует субъект. Субъект, реализующий социальный проект, ставит цель – изменение среды. Меняющаяся среда, а она меняется непрерывно под воздействием управляющего субъекта, внешних акторов, стихийно, то есть абсолютно непредсказуемо, меняет свойства объекта, а сам субъект меняется осмысленно, реагируя на вызовы, как внешние, так и внутренние.В такой ситуации, когда все зыбко, нестабильно, непредсказуемо, выработка какого-то четкого проекта теряет смысл, потому что за время, потраченное на разработку, условия меняются, причем иногда так радикально, что любые планы утрачивают актуальность. Кстати, я не зря упомянул план реформ «500 дней» Шаталина и Явлинского. Пока план разрабатывался, пока дискутировался на съездах и в печати, он абсолютно утратил практическую ценность, и без того довольно сомнительную. Проще говоря, Советский союз начал рассыпаться, поэтому даже попыток его реализации не было предпринято.Единственная форма существования социального проекта - облако смыслов. И одного автора, пусть даже гениального, у социального проекта быть не может. Это всегда результат интеллектуальных усилий коллективного субъекта – элиты или контрэлиты соответственно. У одних – проект, который они реализуют, используя власть, у других – контрпроект, для реализации которого они стремятся к власти.Яркий пример социального проекта – советский проект. Он никогда не существовал в сколь-нибудь системно сформулированном виде, он являл собой совокупность идей, часто идей конфронтационных. Военный коммунизм – ответ на вызов гражданской войны. Война завершилась победой красных, критическими стали экономические вызовы, тотальная разруха – возник проект НЭПа. НЭП был тактически успешным, но тупиковым в плане стратегии, и быстро изжил себя. Однако, что делать дальше, элита не очень понимала, поэтому несколько лет было потрачено на споры, что же делать. НЭП тем временем привел к тяжелейшему кризису.Собственно, к середине 20-х, что делать, было уже понятно – превращать СССР в индустриальную державу. Спорили о том, как именно это сделать. Кстати, идея форсированной индустриализации первым высказал не Сталин, а Троцкий. Сталин вообще в качестве креатива был, мягко говоря, слабоват, но он имел хорошо развитое чутье и великолепно использовал чужие идеи, идеи своих оппонентов, или даже врагов. Брал их задумки, приспосабливал к своим интересам, а врагов расстреливал.Гениальный подход! Но почему авторы здравых идей сами не пользовались плодами своих усилий? Сталин в отличие от своих оппонентов был практиком, а не прожектером, то есть он понимал, что власть – это инструмент. Он умел этим инструментом пользоваться. А кто не умел – тот закончил в расстрельном рве. Это, кстати, к вопросу о конкуренции во власти. Внутриэлитная конкуренция в СССР имела крайнюю форму войны на уничтожение.Итак, встал вопрос о проекте развития. Была бухаринская концепция построения, как бы мы сейчас сказали, потребительского общества, и концепция, давайте назовем ее сталинской – форсированной индустриализации – это то, против чего решительно выступал Сталин во начале 20-х годов, когда он вместе с Бухариным принадлежал к одной группировке. Задним числом мы понимаем, что именно сталинский подход обеспечил СССР выживание в ходе Второй мировой войны. В мирных условиях, вполне возможно, сработала бы бухаринская концепция. Кстати, она и сработала: китайцы очень внимательно изучали труды Бухарина в конце 70-х – начале 80-х и великие реформы имени Ден Сяопина – это в каком-то смысл реинкарнация бухаринской стратегии.В течении буквально двух пятилеток программа форсированной индустриализации была выполнена. Далее, как ответ на новый вызов, был реализован прое

Начало здесь. Давайте коснемся такого важного вопроса: в каком виде существует социальный проект (проект развития социальной системы, политический проект)?
Банальный ответ так и напрашивается – в виде партийной или предвыборной программы, пафосного манифеста, государственного декрета, коалиционной декларации, плана реформ типа «500 дней». Люди старше 50 лет хорошо должны помнить это название. Но – нет. В кодифицированном виде социальный проект не может существовать в принципе.
Попробуйте найти, например, план построения социализма в СССР. Нет такого. Может, вы найдете предвыборную программу большевиков? Они один единственный раз в жизни участвовали в конкурентных выборах в Учредительное собрание. Но даже в этом случае сочинением программы себя утруждать не стали. В любом случае все вышеперечисленное относится к сфере политического популизма – это чисто утилитарный инструмент по навязыванию воли политического субъекта объекту управления – обществу.
ВОПЛОЩАЕТСЯ ИДЕЯ, А НЕ ПЛАН. Четко сформулированного и утвержденного голосованием социального проекта не может существовать хотя бы по чисто технической причине. В данном случае мы имеем дело с динамической системой субъект-объект-среда.
Элита – носитель социального проекта – управляющий субъект, общество – объект управления, а среда – это те условия, в которых существуют объект и действует субъект. Субъект, реализующий социальный проект, ставит цель – изменение среды. Меняющаяся среда, а она меняется непрерывно под воздействием управляющего субъекта, внешних акторов, стихийно, то есть абсолютно непредсказуемо, меняет свойства объекта, а сам субъект меняется осмысленно, реагируя на вызовы, как внешние, так и внутренние.
В такой ситуации, когда все зыбко, нестабильно, непредсказуемо, выработка какого-то четкого проекта теряет смысл, потому что за время, потраченное на разработку, условия меняются, причем иногда так радикально, что любые планы утрачивают актуальность. Кстати, я не зря упомянул план реформ «500 дней» Шаталина и Явлинского. Пока план разрабатывался, пока дискутировался на съездах и в печати, он абсолютно утратил практическую ценность, и без того довольно сомнительную. Проще говоря, Советский союз начал рассыпаться, поэтому даже попыток его реализации не было предпринято.
Единственная форма существования социального проекта - облако смыслов. И одного автора, пусть даже гениального, у социального проекта быть не может. Это всегда результат интеллектуальных усилий коллективного субъекта – элиты или контрэлиты соответственно. У одних – проект, который они реализуют, используя власть, у других – контрпроект, для реализации которого они стремятся к власти.
Яркий пример социального проекта – советский проект. Он никогда не существовал в сколь-нибудь системно сформулированном виде, он являл собой совокупность идей, часто идей конфронтационных. Военный коммунизм – ответ на вызов гражданской войны. Война завершилась победой красных, критическими стали экономические вызовы, тотальная разруха – возник проект НЭПа. НЭП был тактически успешным, но тупиковым в плане стратегии, и быстро изжил себя. Однако, что делать дальше, элита не очень понимала, поэтому несколько лет было потрачено на споры, что же делать. НЭП тем временем привел к тяжелейшему кризису.
Собственно, к середине 20-х, что делать, было уже понятно – превращать СССР в индустриальную державу. Спорили о том, как именно это сделать. Кстати, идея форсированной индустриализации первым высказал не Сталин, а Троцкий. Сталин вообще в качестве креатива был, мягко говоря, слабоват, но он имел хорошо развитое чутье и великолепно использовал чужие идеи, идеи своих оппонентов, или даже врагов. Брал их задумки, приспосабливал к своим интересам, а врагов расстреливал.
Гениальный подход! Но почему авторы здравых идей сами не пользовались плодами своих усилий? Сталин в отличие от своих оппонентов был практиком, а не прожектером, то есть он понимал, что власть – это инструмент. Он умел этим инструментом пользоваться. А кто не умел – тот закончил в расстрельном рве. Это, кстати, к вопросу о конкуренции во власти. Внутриэлитная конкуренция в СССР имела крайнюю форму войны на уничтожение.
Итак, встал вопрос о проекте развития. Была бухаринская концепция построения, как бы мы сейчас сказали, потребительского общества, и концепция, давайте назовем ее сталинской – форсированной индустриализации – это то, против чего решительно выступал Сталин во начале 20-х годов, когда он вместе с Бухариным принадлежал к одной группировке. Задним числом мы понимаем, что именно сталинский подход обеспечил СССР выживание в ходе Второй мировой войны. В мирных условиях, вполне возможно, сработала бы бухаринская концепция. Кстати, она и сработала: китайцы очень внимательно изучали труды Бухарина в конце 70-х – начале 80-х и великие реформы имени Ден Сяопина – это в каком-то смысл реинкарнация бухаринской стратегии.
В течении буквально двух пятилеток программа форсированной индустриализации была выполнена. Далее, как ответ на новый вызов, был реализован проект мобилизационного рывка под лозунгом «Все для фронта, все для победы». После войны был действительно эффективно осуществлен восстановительный проект. А вот потом случился катастрофический провал. Окостеневшая, деградировавшая идейно и интеллектуально элита не смогла оценить вызовы времени. То есть утратила интуицию, перестала чувствовать дух времени. Когда в 50-х годах нужно было переходить от милитаристско-мобилизационного проекта к новому, этот новый проект, отвечающий потребностям общества, выдвинут не был. Советский союз продолжил развиваться по накатанным рельсам, готовясь к третьей мировой войне, и в результате социальная система завершила свой жизненный цикл. И никакой план «500 дней» ей помочь был уже не в силах.
Механика такая: как я говорил выше, концентрация системной сложности происходит в управляющем контуре. Он накапливает системную сложность, потому что усложняется все – экономика, культура, политическая сфера, усложняются задачи управления и надо не просто соответствовать новым требованиям, надо опережать эти требования. Опережающее развитие возможно только в том случае, если субъект управления сложнее объекта управления. Если же общество уже стало сложным, а система управления осталась примитивной, не соответствующей уровню стоящих перед ней задач, то развитие уступает место деградации.
Может ли общество развиваться самостоятельно, как бы вопреки власти? Да, может. Но в этом случае власть становится тормозом развития, она старается примитивизировать общество, подогнать под свои уже устаревшие шаблоны. Власть уже не генерирует новшества, а борется с ними, понимая, что прогресс делает старую элиту ненужной. Вот тут и возникает шанс для контрэлиты.
Советское общество, пусть и по инерции, продолжало накапливать системную сложность 50-70-е годы. Однако система управления не только не усложнялась, она на системном уровне деградировала. В 70-е годы она в принципе уже не могла решать задачи развития, сконцентрировавшись на собственном выживании. Мы имеем яркое противоречие между несоответствием субъекта управления управляемому объекту. Партноменклатура – правящий класс СССР – перестала соответствовать критериям качественного управления и должна была уступить место контрэлите. Но контрэлиты – не было, ее уничтожили, выжгли саму среду, в которой она могла существовать. Поэтому элита продолжила комфортно деградировать, не чувствуя конкуренции. Если при Сталине хотя бы чистки и расстрелы поддерживали ее в тонусе, то в 70-е годы старцы в штурвал вцепились мертвой хваткой и забаррикадировались на капитанском мостике. Сейчас видим ровно то же самое.
Как можно было разрешить это противоречие, ключевое внутреннее противоречие, возникшее в ходе реализации советского проекта? Один из путей – эволюционная ротация элит, был невозможен вследствие уничтожения контрэлит. Второй – революционная смена власти. Предпосылки были, но в ходе Перестройки так и не появилось даже зародыша контрэлиты, а без контрэлиты революция принципиально невозможна. Третий – смена проекта развития.
Могла ли произойти смена проекта без смены элиты? Да, только в одном случае: если элита понизит уровень системной сложности управляемого объекта до уровня своей компетенции. Проще говоря: если элита не может усложняться, для выживания ей надо упросить управляемый объект. То есть сбросить уровень сложности социальной системы, откатить его назад. Этот процесс называется инволюцией.
Полностью согласен с таким автором, как Анатолий Несмиян, который утверждает, что советский проект рухнул, потому что слишком быстро развивался. Формулировка «слишком быстро», наверное, некорректна. Если бы скорость развития была меньше – это ведь не значит, что все было бы хорошо. Скорость развития – понятие относительное. Правильно так: закостеневшая элита утратила способность развиваться и начала ради собственного выживания тормозить развитие, сбрасывать системную сложность буквально на ходу. В итоге многие из читающих эти строки стали свидетелями «крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века», как выразился Путин. Он, понятно, не сам это придумал, а просто вольно перефразировал Александра Зиновьева или Сергея Кара-Мурзу (не путать с Владимиром), но это не важно.
Губительным для СССР стало не отставание в развитии от ведущих стран Запада. Отстающими являются подавляющее большинство стран мира, но это не приводит к их гибели. Не могут все идти вровень. Внутри Евросоюза есть передовая Германия и хронически отстающая Румыния. Но ведь Румыния развивается, причем темпами выше, чем Германия. Смертельным для Советского Союза стал отказ элиты от качественного развития, ставка на сохранение стабильности.
ГДЕ ЖИВУТ ИДЕИ? Но мы отвлеклись. Речь шла о форме существования социального проекта в виде облака смыслов, облака идей, которые выдвигают представители элиты. После чего они подвергаются коллективной рефлексии. Конкретные управляющие сигналы вырабатываются правящей элитой из этого идейного субстрата.
Почему социальный проект не может существовать в виде директивного документа? Провал программы «500 дней» показателен, но есть и более красноречивые проекты. Например в России в прошлом десятилетии бывший народный депутат СССР, экс-депутат Госдумы РФ первых двух созывов Степан Сулакшин создал целый институт – Центр научной политической мысли и идеологии, более известный, как Центр Сулакшина, задачей которого была разработка на строгой научной основе фундаментального политического проекта, реализация которого должна привести Россию к успеху.
Степан Степанович собрал вокруг себя деятелей, которые совместными усилиями взялись указать стране пусть в светлое завтра. Центр предполагался то ли как мозговой трест, предлагающий действующей власти прорывные проекты, то ли как кадровый питомник для этой самой власти. Поскольку власть не проявила к результатам многолетних усилий ЦНПМИ ни малейшего интереса, как и не собиралась кооптировать в правящую верхушку интеллектуалов из кружка Сулакшина, он переформатировал свой проект, превратив его в общественную дискуссионную площадку, а позже пытался создать из своих сторонников политическую партию под названием «Партия нового типа» и даже баллотироваться в президенты в 2018 г.

Центр Сулакшина разработал проект Конституции России толщиной аж в 98 страниц, кучу всевозможных эпохальных проектов законов, сотрудниками Центра написаны пудовые тома в которых обсуждаются экономические, политические, демографические и прочие проблемы РФ, предлагаются научно обоснованные методы их решения (см. стопку фолиантов на картинке – это только то, что издано на бумаге). Апогеем проектной деятельности Сулакшина стала презентация политического манифеста «Программа Сулакшина», в которой он предложил преобразовать Россию из автократии в тоталитарное идеократическое государство по его лекалам. Адресовалось послание населению России, которое должно прочесть, единодушно уверовать и заставить Путина передать власть Сулакшину для спасения страны взамен гарантий неприкосновенности. Подробный разбор сей нетленки я сделал здесь.
Увенчалась вся эта многолетняя работа абсолютным провалом. И вовсе не потому, что Сулакшин и присные предложили кринжовую бредятину в виде чисто фашисткой модели солидаристского государства. Чтобы это понять, надо было хотя бы прочитать сулакшинскую программу, а этого не делал никто. Ширнарсмассам эта занудная наукообразная демагогия просто непонятна и абсолютно не интересна. А власти она совершенно не нужна. У нее есть своя идеологическая и пропагандистская обслуга. Нафиг ей непрошенные менторы?
В итоге плод 10-летних усилий Центра Сулакшина просто пошел в топку – сайт снесен, с ютуб-канала удалены все материалы. Осталась только страничка во ВКонтакте с Z-пропагандой, да и та не обновляется с марта 2022 г. С того же времени и о самом Сулакшине ничего не слышно, а уровень интереса к его трудам равен нулю. И в будущем они не имеют ни малейшего шанса быть востребованными. Эта история еще раз подтверждает сказанное мной выше:
- Инфантильные представители антиэлиты, а Сулакшин – типичный представитель этой категории, к социальному проектированию не способны принципиально. Даже участвуя во власти, они ее всегда теряют, превращаясь в чистых маргиналов.
- Социальный проект без доступа к властному ресурсу, абсолютно бесполезен.
- Апеллировать со своей политической доктриной к ширнармассам бессмысленно. Для масс пригоден только язык популизма, способностью к социальной рефлексии обладает только элита (контрэлита). А если ее нет – то и рефлексировать попросту некому, и незачем.
ПОЧЕМУ ЛЕНИН ВЕЛИК, А НАВАЛЬНЫЙ – НЕТ. Кто-то, наверное, возразит мне: мол, разве, например, Ленин в эмиграции занимался не тем же самым, что и Сулакшин – строчил политические памфлеты сомнительной практической ценности? Нет, он занимался совершенно иным – формировал облако смыслов, перерабатывал идеи, созданные его предшественниками, соратниками, оппонентами. Он не сочинял Конституцию социалистической России, не разрабатывал планы реформ, не давал советы царю, как нам обустроить Россию, не выдвигал ему ультиматумы и даже не строил планы прихода к власти. Если бы он занимался этой херней, то выглядел бы клоуном.
Да, утилитарной ценности в работах эмигранта Ленина мы не обнаружим. Даже если взять первый его серьезный труд – «Что делать. Наболевшие вопросы нашего движения», то там нет никаких директивных указаний, нет плана действий, зато много расплывчатых рассуждений о роли пролетариата в грядущей социалистической революции. Все это имеет ценность только в контексте идейных споров в среде социалистов начала XX века. Но для формирования русской социалистической мысли эта работа имела значение не меньшее, чем «Капитал» Маркса.
Кстати, в трудах Маркса вы тоже никакой директивы, никакого плана действий не обнаружите, Маркс был чистым философом. Но его философии выросло уже ни одно поколение политиков-практиков. Маркс создал аналитический инструментарий, который пригоден и для обсуждения проблем современности. Я, например, частенько апеллирую к историческому материализму, пользуюсь диалектической логикой. Тем самым я обращаюсь к облаку смыслов, которое формировал Маркс.
Но ведь нет никакого отдельного облака смысла Маркса, облака смыслов Энгельса, ленинского, бакунинского или плехановского облаков. Есть необъятное смысловое облако, которое мы можем назвать «Социалистическая мысль». Первые социалистические идеи изложил в античности еще Платон. В эпоху Ренесанса эти смыслы обогатили своим творчеством Томас Мор и Томмазо Кампанелла. Нарисованное Мором в «Остове Утопия» картина – это уже внятное описание коммунистического проекта.
Собственно политическую концепцию социализма оформили в начале XIX в. Сен-Симон, Фурье, Оуэн. Ну а дальше за дело взялся Карл Маркс, сделавший большой шаг от романтического социализма к практической политической доктрине. Маркс ничего не выдумал сам, он впитал в себя смыслы, созданные предшественниками, переработал их и обогатил. Например, до него социализм и коммунизм рассматривались как различные идеи, несовместимые друг с другом, он же выстроил их в единую концепцию.
Так вот, Ленин занимался тем же самым – критически перерабатывал и обогащал идеи, созданные Марксом и другими представителям идеологами социализма. В частности, в своей работе «Что делать» он выдвинул мысль, казавшуюся многим крамольной, но в то же время очень продуктивную: о том, что классовое сознание рабочим может быть привнесено только извне. Если строго следовать марксистской доктрине, то классовое сознание должно вызревать по мере формирования рабочего класса и роста его роли в обществе, как бы естественным путем. Ленин же решительно оспорил это, констатировав, что естественным путем классовое сознание пролетариата не идет дальше требований «хлеба и масла», то есть ограничивается идеями трейд-юнионизма.
Я уверен, что 90% моих зрителей/читателей сейчас вообще не понимают, что за воду я толку в ступе. Так я же сказал, что значение обсуждаемой работы Ленина может быть понятно исключительно в контексте актуальных для начала прошлого века дискуссий в среде социалистов. Из ленинской доктрины, повторюсь, довольно крамольной по мнению правоверных марксистов того времени, следовал очень важный практический вывод: тем самым создателем и выразителем классового сознания пролетариата, субъектом, политизирующим рабочих и заставляющим их добиваться политических целей, может стать революционная партия, сформированная не рабочими, но использующая пролетариат как свою социальную базу, как средство достижения власти.
И вот уже на этом идейном багаже возникла доктрина большевистской партии и в дальнейшем – концепция партийной диктатуры. Первая в мире партийная диктатура, то есть режим однопартийного правления, был реализован именно в России. И кем же? Тем самым Владимиром Ульяновым-Лениным. Ему очень повезло – он стал не только политическим философом и теоретиком, но и политиком-практиком.
Но у Ильича не имелось никакого практического плана захвата власти, были лишь расплывчатые идеи, которые он мастерски интерпретировал, применяя к реальности. Причем применял их, преодолевая сильное сопротивление своих однопартийцев, для которых лидер партии был слишком уж радикален и непредсказуем в своих маневрах. Как сейчас говорят, он переобувался на лету. Но переобувался он, можно сказать, осмысленно, как грамотный политический проектировщик. Если идея устарела или показала свою неэффективность, он ее без всякой жалости отбрасывал. А если что-то казалось перспективным, тут же брал в дело. Надо сказать, он обладал еще и хорошей интуицией. Например, антивоенная позиция, принятая большевиками в 1914 г., благодаря исключительным усилиям Ленина, в тот момент не давала им абсолютно ничего, а тремя годами спустя именно на общественном запросе «Долой войну» большевики взяли власть.
Но принципы захвата власти Ильич обдумывал еще в 1901-1902 гг., когда писал свою работу «Что делать». И долгие годы он пытался создавать инструмент именно для такого метода взятия власти, хоть и не рассчитывал, что это удастся сделать при его жизни. Этот инструмент называется «революционная партия». Делаем вывод: Владимир Ленин занимался социальным проектированием именно так, как этим и нужно заниматься представителю контрэлиты – формировал смыслы и созидал зародыш политического субъекта-носителя этих смыслов. А что касается программы действий, то она сочинялась буквально на коленке в соответствии с сиюминутной конъюнктурой. Завтра конъюнктура менялась – менялся план. Неизменной оставалась лишь цель – взятие и удержание власти.
Насколько актуально наследие Ленина сегодня? Если вы хотите стать мэром или депутатом Европарламента, то вряд ли вам чем-то поможет чтение 1500 произведений обитателя мавзолея. И вообще, вопрос надо ставить так: насколько сегодня актуален социализм как идеология и практика госстроительства. Если актуален, то актуально и ленинское идейное наследие, буквально растворенное в облаке смыслов.
Сегодня в мире существует всего три политических идеологии, точнее идеологических направления: национализм, либерализм и социализм. Любая конкретная партийная или иная идеология – это микс из трех компонентов. Социализм, поверьте, живее всех живых. Например, в Швеции политический режим социалистический. Это называется синий социализм или более обтекаемо – скандинавская модель. Социальное государство, бесплатное образование и медицина (страховая), плановая экономика, но капитал контролируется не через государственное владение, как в СССР, а через государственное регулирование. Потому и рыночные отношения сохранены. В итоге возникло социалистическое государство при капиталистической экономике. Вообще в Западной Европе после войны утвердилось то, что называется социальным государством. Но социальное государство – это продукт социалистической идеологии.

Еще один важный момент осталось осветить, и тут поможет живой пример. Когда я читал лекцию о социальном проектировании в Батуми, там в ходе обсуждения произошел спор с адептом Навального. Тот доказывал, что у Навального есть внятный социальный проект в виде того самого облака смыслов.
Когда меня спрашивают, как я отношусь к идеям Навального, я чувствую себя евреем, потому что вынужден отвечать вопросом на вопрос: а где можно ознакомиться с его идеями? Ну не удосужился он написать не то, что книги, где бы изложил вои взгляды, а даже брошюрки. Посмертно издали его мемуары – но там он о себе любимом пишет. И вообще крайне сомнительно, что он их писал. Это очень напоминает историю с соцсетями Навального, в которые кто-то активно выкладывал контент, и это точно был не он. Но если кто-то писал за сабжа твиты и комментарии, то почему этот кто-то не мог сочинить мемуары? Я-то в тюрьме сидел: там мне аж в трусы с фонариком заглядывали, чтоб не дай бог, не передал через адвоката какой-то писанины, так что я к авторству Навального отношусь с большим скепсисом.
И вот на этой встрече тот навальнист попытался бить меня моими же словами. Мол, сам долдонишь, что политически проект существует не в виде толстой книжки в духе Сулакшина, а в расплывчатом облаке смыслов. Навальный дескать это облако смыслов формировал своими публикациями в блогах да так конкретно, что хоть сейчас бери и дословно реализуй – строй по его рецептам «Прекрасную Россию будущего».
Это, конечно, чушь. Навальный занимался только и исключительно политическим популизмом, но политического проекта в качестве наследия потомкам не оставил даже в зародыше. Популизм – это инструмент манипуляции стадом, но не более того.
На это навальнист возражал мне, что то, что я называю дешевым популизмом – это на самом деле не популизм, а глубоко проработанная светоносная политическая концепция либерального толка. Мол, я навешиваю ярлыки и подменяю сущностную оценку фирменным кунгуровским абьюзом. Дескать, нет у меня монополии решать, что является популизмом, а что социальным проектированием. Навальный – это Ленин сегодня, и точка!
На самом деле существует предельно четкий железобетонный критерий, определяющий, что является популизмом, а что – серьезным социальным проектом в виде того самого облака смыслов. Критерий предельно простой – адресат послания. Популизм всегда обращен к толпе, массам. А социальный проект адресован только и исключительно элитам/контрэлитам.
Ленин, раз уж мы сегодня его творчества обсуждаем, тоже занимался популизмом. Статьи в «Искре», обращенные к рабочим, он писал остро, эмоционально, манипулятивно. Он был великолепным оратором, и заводил толпы неграмотных крестьян в солдатских шинелях – это популизм. Но разве «Что делать» или «Империализм, как высшая стадия капитализма» он писал для ширнармасс? Очевидно же, что пролы вообще ничего там не поймут, и даже не будут читать. Там на каждой странице по десятку отсылок к Гегелю, Канту, Энгельсу, Каутскому. Там очень сложный понятийный язык, громоздкие модели. Чтобы понять хотя бы в общих чертах о том, что пишет Ленин, надо принадлежать к 0,1% образованных людей того времени. То есть нужно принадлежать к интеллектуальной элите.
Вот Степан Сулакшин хотя бы пытался обращать свои месседжи к элите. Другое дело, что он оказался не способен к выработке социального проекта, да и нет в России элиты, шпана у власти. Но Навальный никогда не пытался заниматься проектной политической работой и даже просто серьезной публицистикой. Он был шоумен, популист, драл глотку за все хорошее против всего плохого. Это поведение типичного представителя антиэлиты.
Если я не прав, дайте мне пруф на серьезную работу Навального, в которой он предстает мыслителем, идеологом, ученым, стратегом, мыслителем. Все его наследие – это скандальные сливы компромата, да стримы на Ютубе. Кто их сейчас смотрит? Они никому не интересны, потому что сегодняшнюю повесточку смакуют другие ловкие хайпожоры.
В общем, будем считать тему о форме существования социального проекта завершенной. В следующей лекции об основах социального проектирования рассмотрим важный вопрос об источниках развития социальных систем. (Продолжение следует).