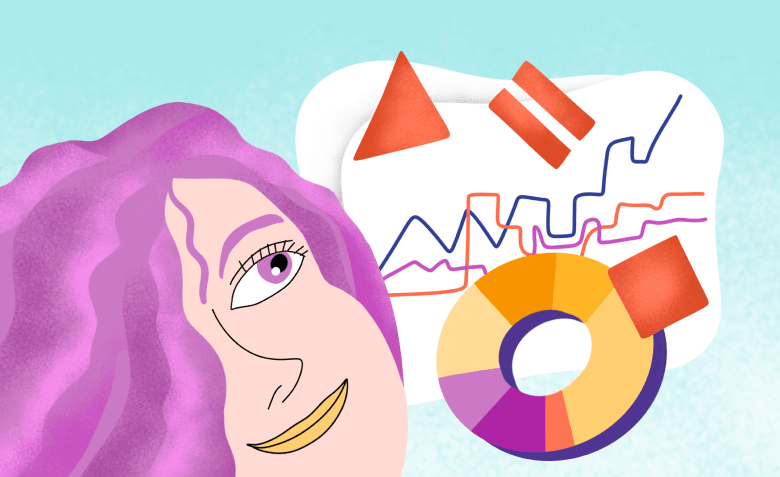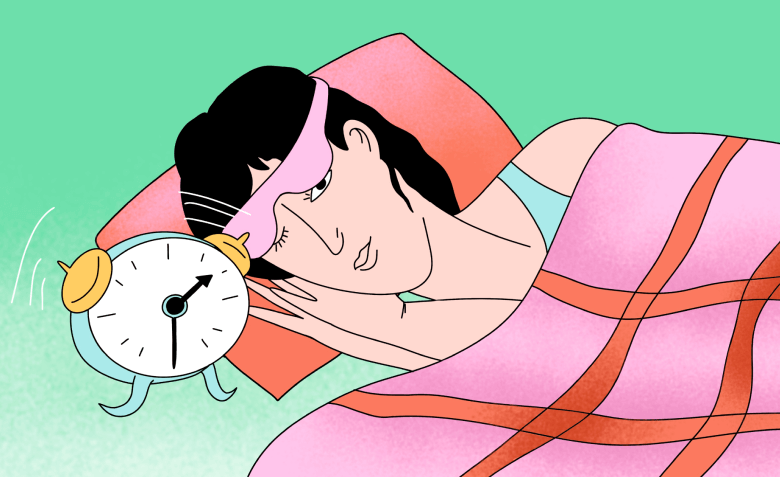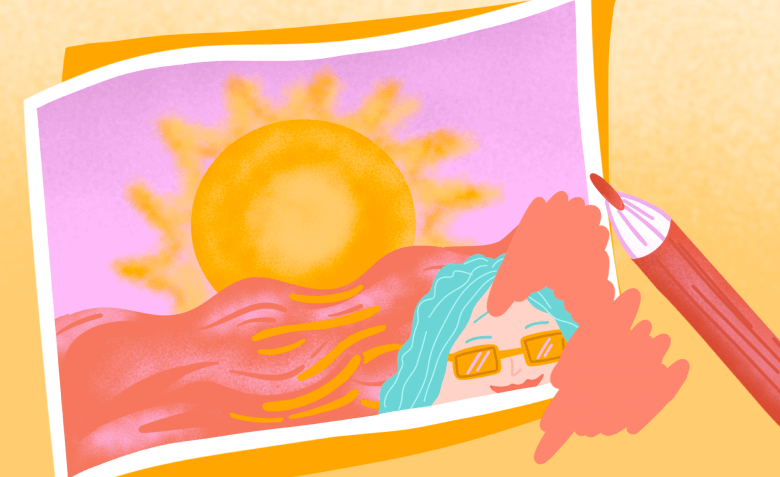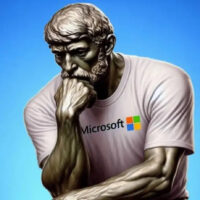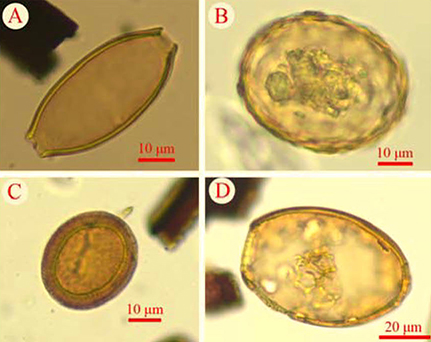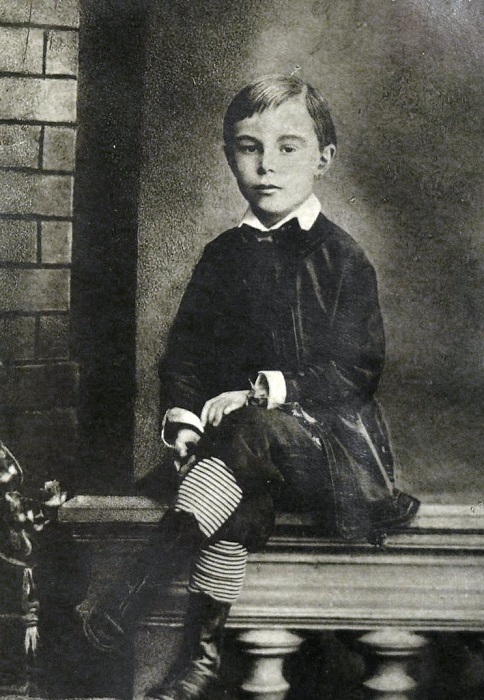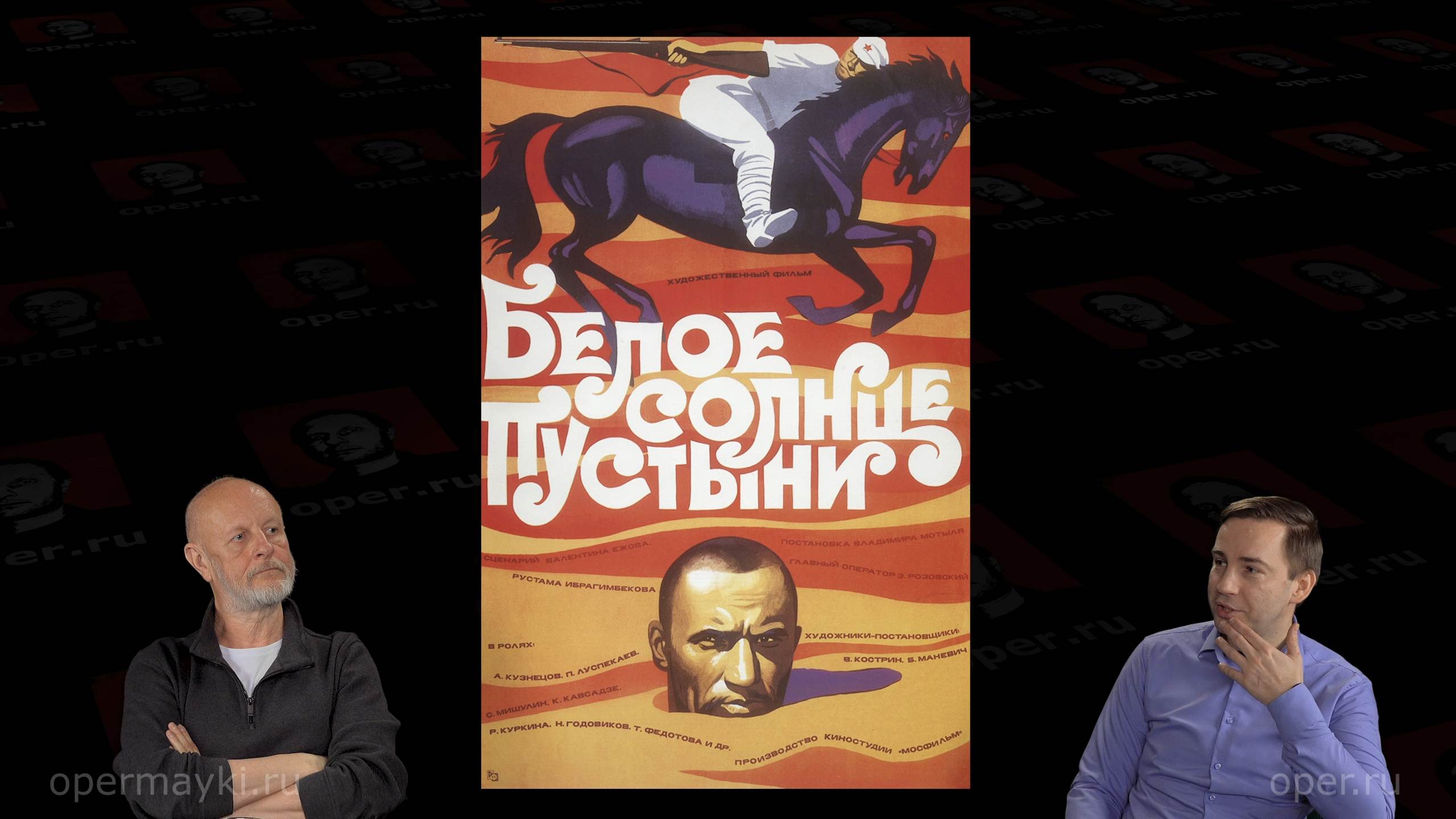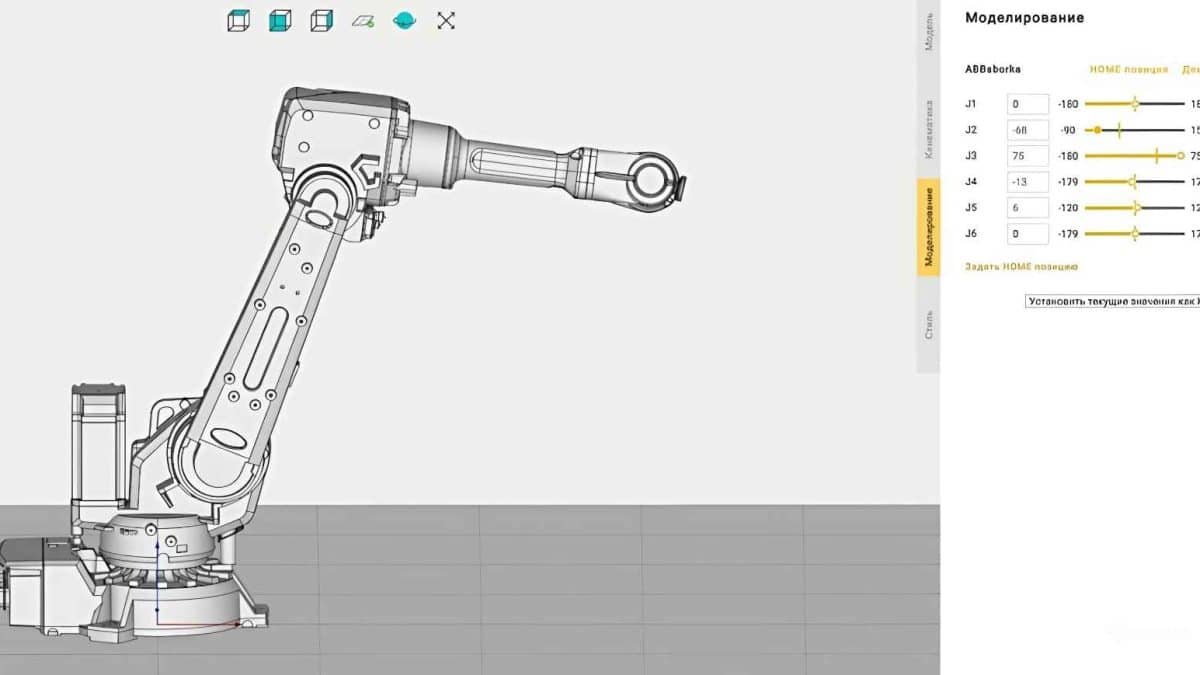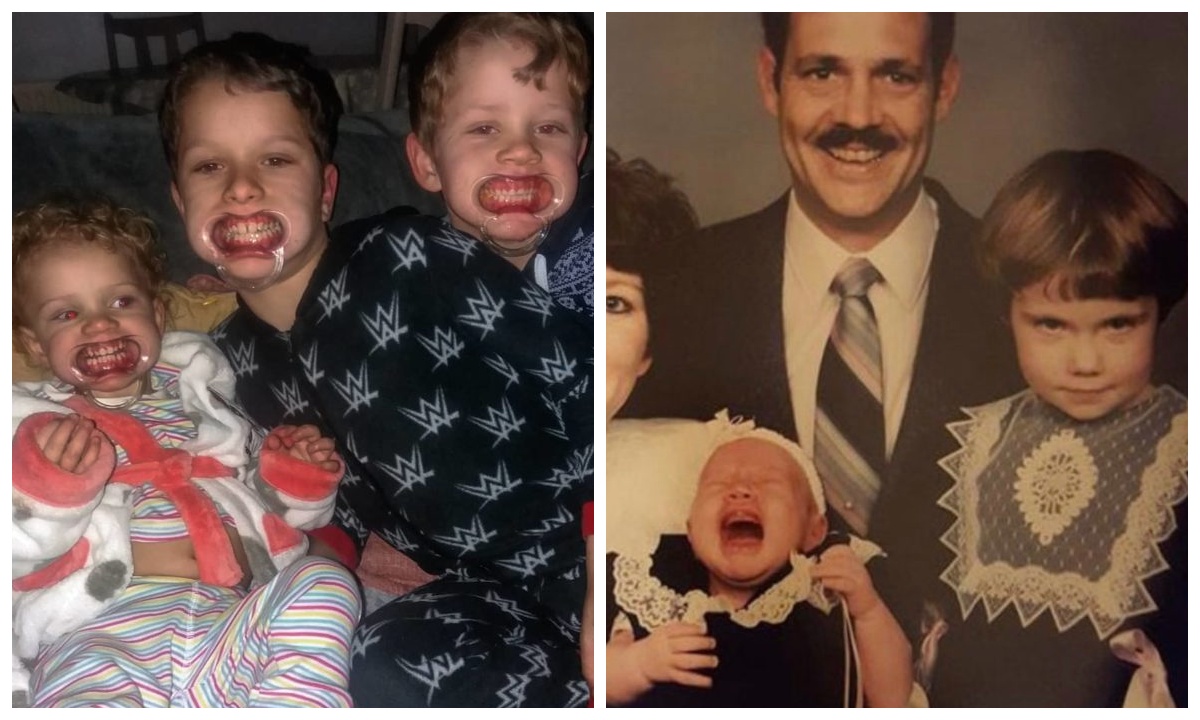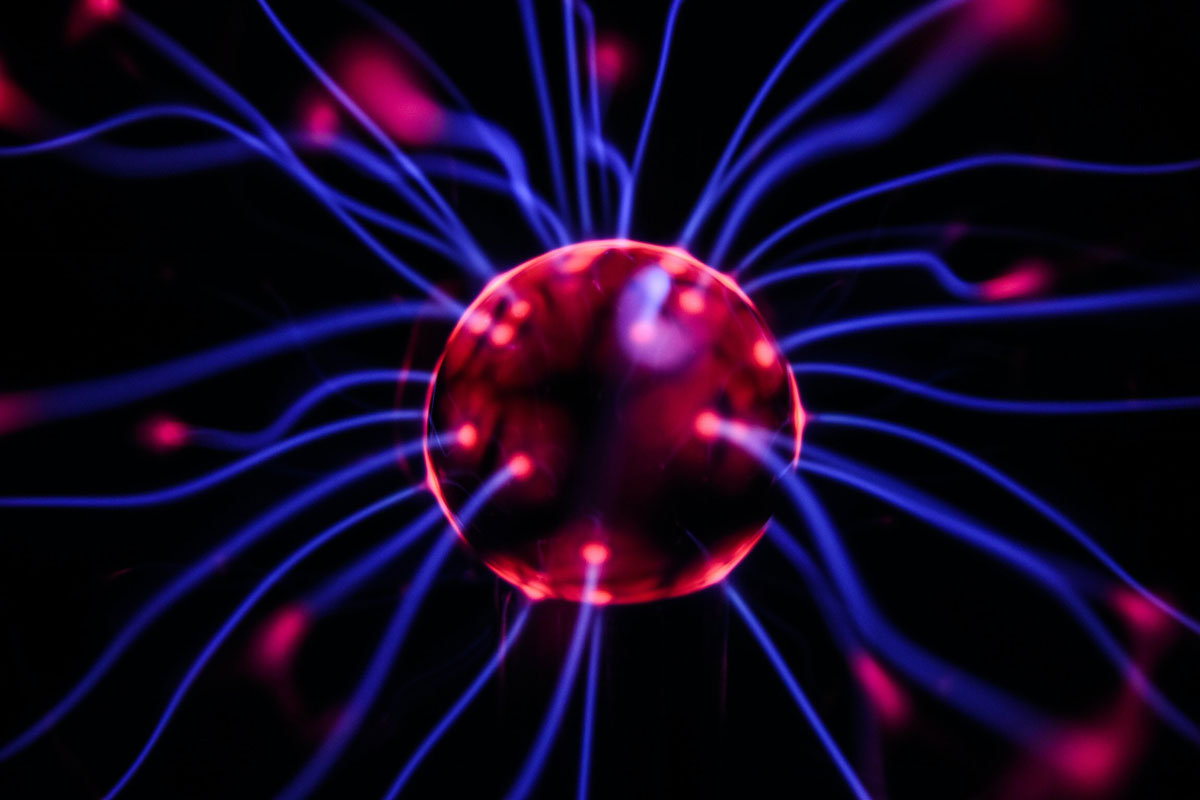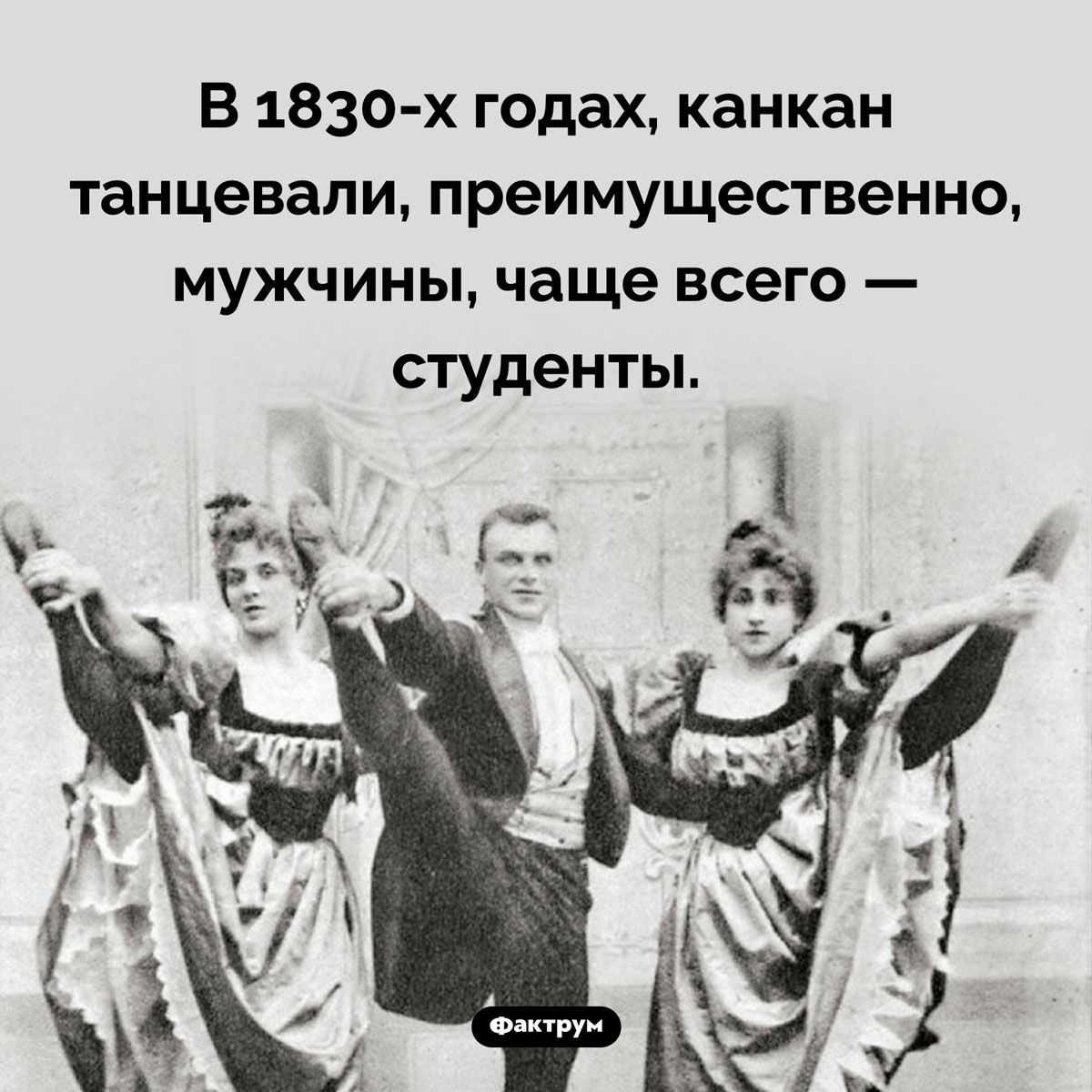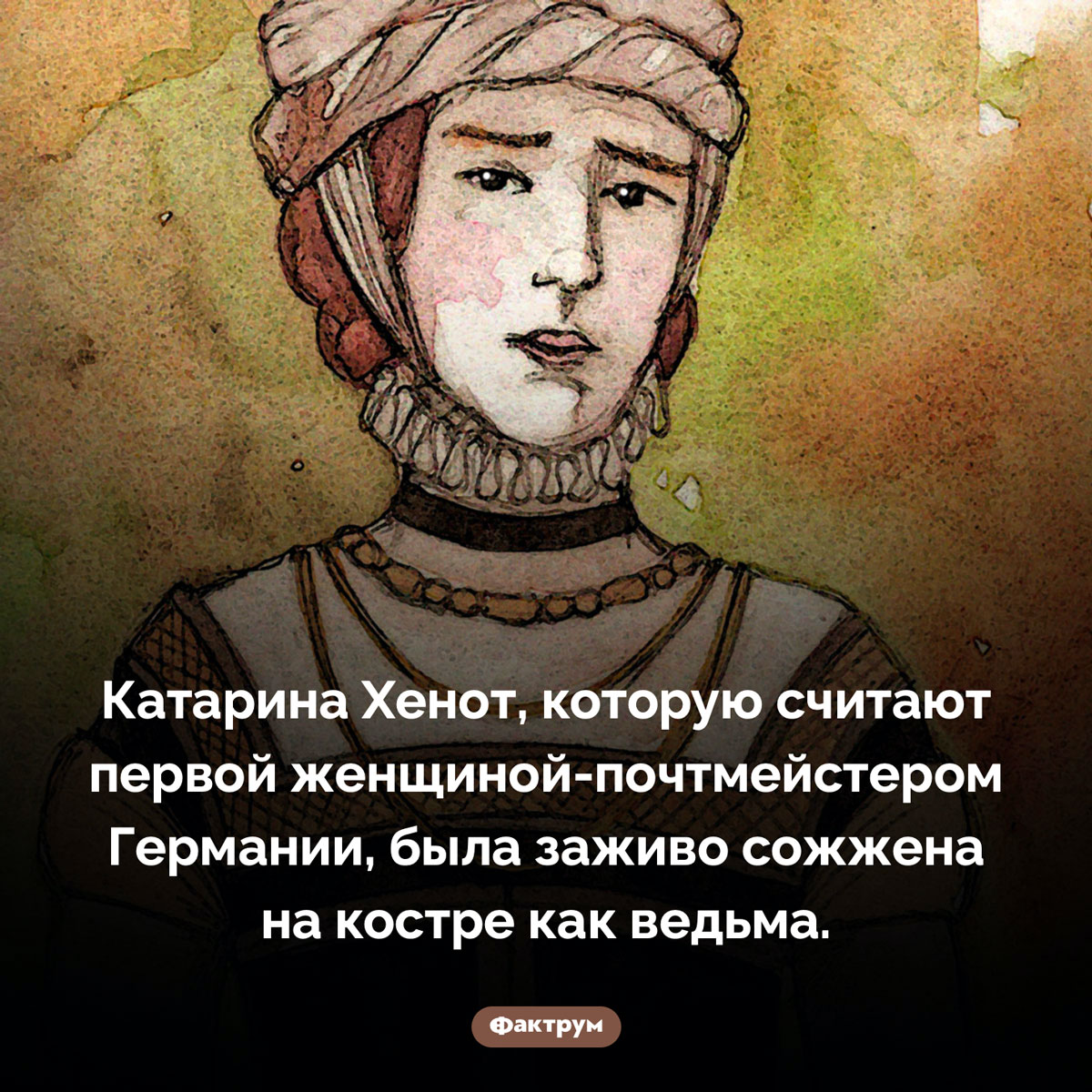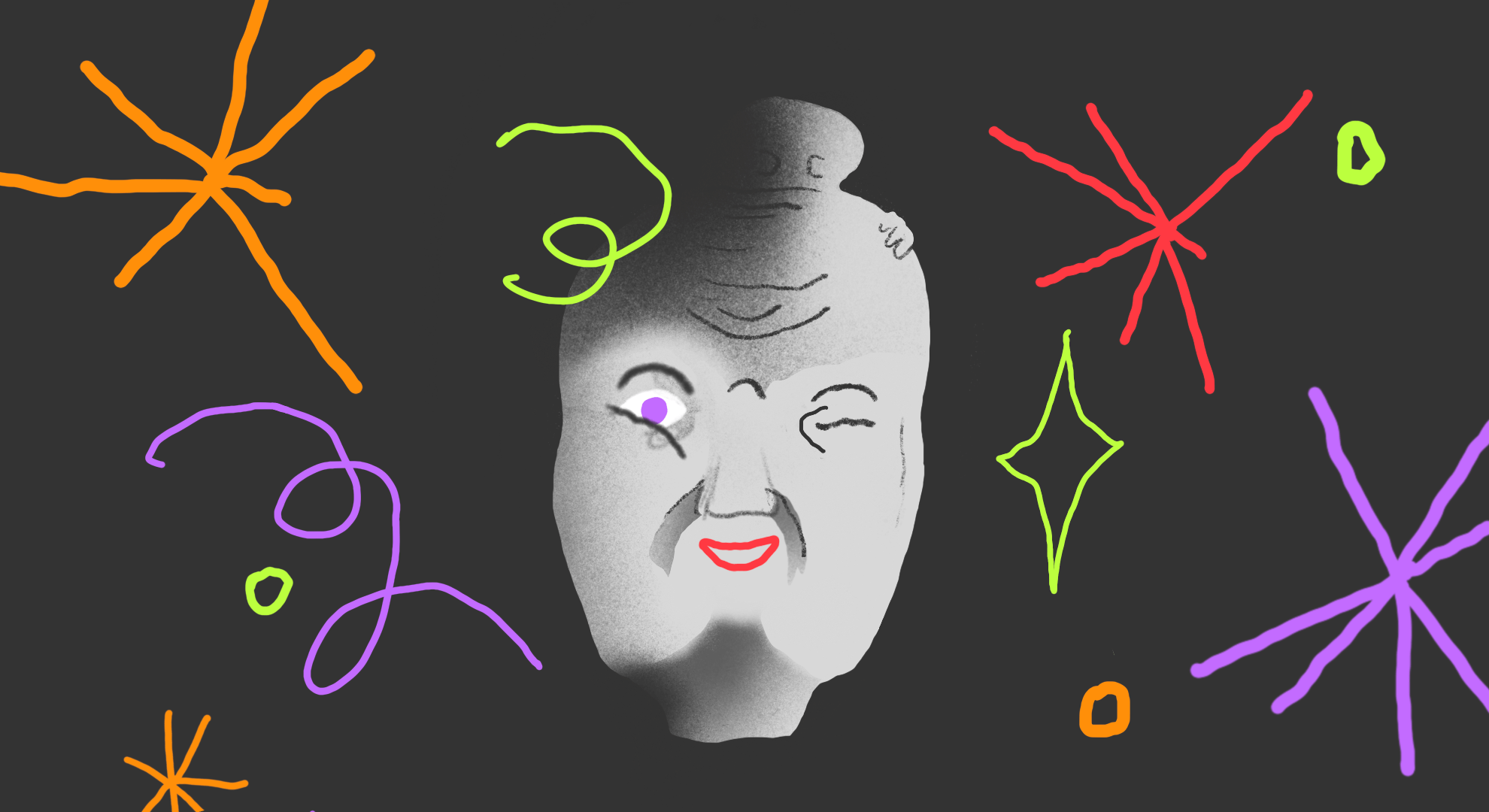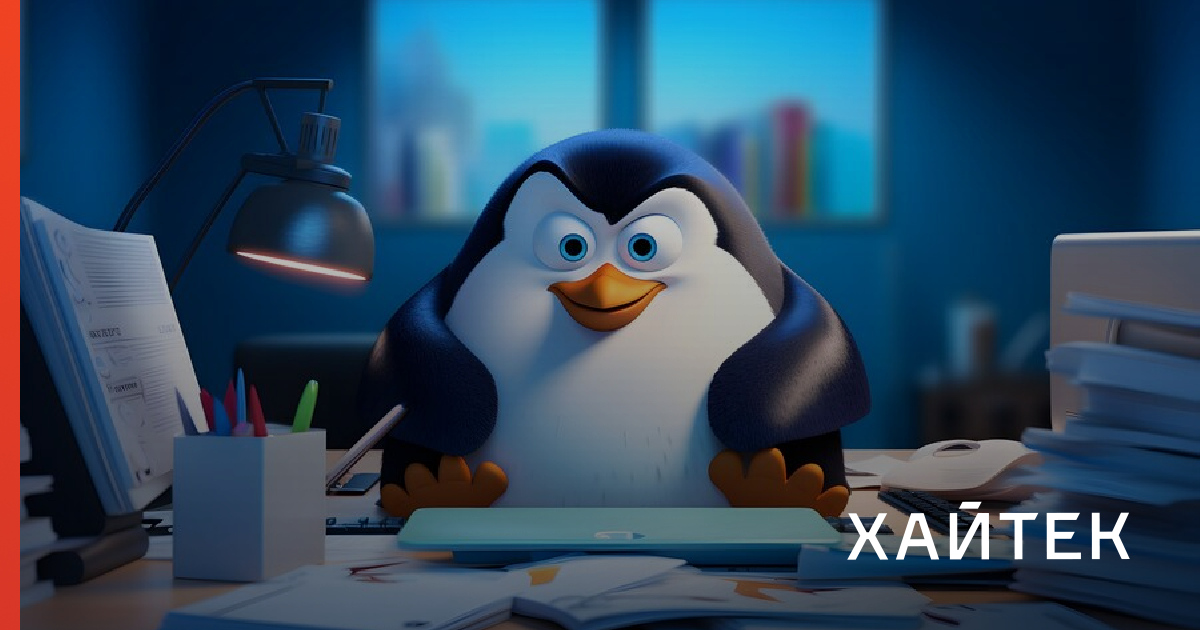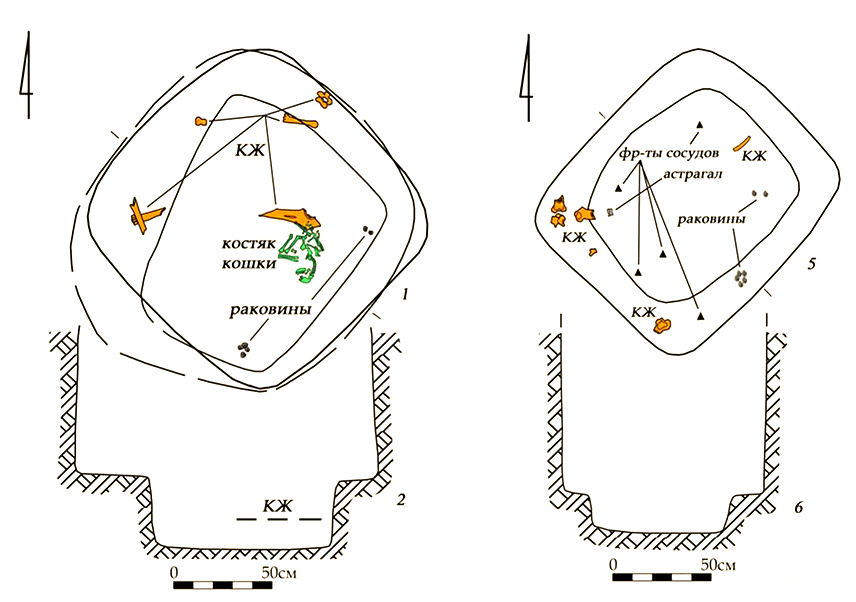Бажов и его герои
Павла Бажова часто называют сказочником, хотя он писал сказы — большая всё-таки разница. Сам он себя называл и писателем, и фольклористом (точнее собирателем фольклора), и писателем-фольклористом. «Я лишь обрабатываю фольклорный материал», — говорил он. Но в этой обработке чувствуется явное не учёное, а творческое вмешательство. Он вырос в семье рабочего Сысертского завода, учился в Екатеринбургском духовном училище и в Пермской духовной семинарии. Отказавшись принять духовный сан, преподавал русский язык, а летом отправлялся в экспедиции по сбору фольклорного материала. Интерес к народному творчеству возник у него ещё в детстве, благодаря семье и заводской среде. «О своей бабушке храню благодарную память, как о ласковом, немало повидавшем на своём веку трудностей и словоохотливом человеке, честно отработавшем свой срок. Но таких было немало и в ближайших избах. Поэтому выделять, что-то или другое слышал от своей бабушки, считаю невозможным. Да это и повело бы, как уже говорилось выше, вовсе не в ту сторону, куда надо. Единственно, что могу утверждать, — это первые детские сведения о Медной горе могли быть получены только от бабушки и отца, так как других лиц, знавших об этом, в ближайшем моём окружении не было. Но это уже сказано, и поэтому вопрос снимается. Отсюда вывод, вроде совета. Надо налегать не на бабушку, а на весь рабочий уклад того времени и особенно на «институт заводских стариков»… Для примера укажу на летние беседы на «завалинках» в праздничные дни или даже на такие обычаи, как супрядки, капустники и т. д., где обычно «вертелись» и мальчуганы годов до семи-восьми. Там они, как губка, впитывали, «о чём старухи судачат», «о чём старики сказывают»». Павел Бажов. (Wikimedia Commons) Особенно его интересовали так называемые присловья, побаски: «Стал записывать. Меня влекли те из них, где слышались отзвуки бурлачества, чусовской вольницы и т. д. Записал я шесть тетрадей. Это была моя первая краеведческая работа. Но в годы гражданской войны затерялась». И всё-таки многое осталось в памяти Бажова. Вот некоторые примеры, которые сразу и без тетрадок он выдавал своим собеседникам и корреспондентам по переписке: «Живём весело: кабак на горе, Серги далеко видно и спускаться ловко»; «Где сеют, да веют, да молотят, да всяко канителят, а у нас снял штаны, полезай в воду и тащи кулём»; «Для того узко горло дано, чтобы слово не скоро выходило»; «Козла бойся спереди, коня — сзади, а злого человека — со всех сторон». Революция и Гражданская война прервала его фольклорные занятия. Бажов был эсером, затем большевиком, партийным работником и журналистом «первого призыва». Он писал статьи, повести, очерки и рассказы о дореволюционной жизни заводских рабочих, о войне. К сказам он пришёл как будто случайно. В 1936 году фольклорист Владимир Бирюков подготовил сборник «Дореволюционный фольклор на Урале». В издательстве обратили внимание на то, что в книге никак не представлен рабочий фольклор. Бирюков ответил, что «он его нигде не может найти». «Меня это просто задело, — вспоминал позже Бажов, — как так, рабочего фольклора нет? Я сам сколько угодно этого рабочего фольклора слыхал, слыхал целые сказы. И я в виде образца принёс «Дорогое имячко»». В сборнике «Дореволюционный фольклор» и журнале «Красная новь» в 1936 году вышло несколько сказов, восстановленных Бажовым «по памяти через пятьдесят лет». «Малахитовая шкатулка». Почтовая марка. (Wikimedia Commons) Через три года вышел сборник «Малахитовая шкатулка», который сразу принёс Бажову известность. Но писался он в особых условиях: на Бажова дважды доносили и дважды его исключали из партии. В 1937 году он ждал ареста. Об этом, как рассказывал Егор Гайдар, внук Бажова: «Его исключили из партии, сняли с работы. Потом он получил повестку из НКВД: явиться в такой-то кабинет. Понятно, что ничего хорошего от вызова не ждали. Бабушка сложила Павлу Петровичу «арестный чемоданчик». Обнялись, попрощались — и он пошёл. Сидит у кабинета. Проходит час, другой, день к концу — не вызывают. Кто-то другой начал бы метаться, сунулся бы в соседний кабинет. Но дед был человеком мудрым. Взял тихонько свой чемоданчик, вышел, вернулся к себе на Чапаева, 11, запер калитку — и год с лишним на улицу не выходил. Копался в огороде, вечерами разбирал бумаги: с двадцатых годов записывал уральский фольклор. Бабушка тоже из дому не выходила. С ними жила бабушкина сестра, Наталья Александровна, учительница — она стала «связью с миром». Затаились. Жили с огорода плюс крошечная зарплата Натальи Александровны. Потом оказалось, что это было правильное решение. В Свердловском НКВД как раз начались перекрёстные репрессии: сажали следователей 1937 года. В чехарде и бардаке про Бажова забыли. А он про себя не напоминал. Бумаги, которые дед разбирал, оформились в знаменитую «Малахитовую шкатулку». По сути, Бажов написал её за эти полтора года, ожидая ареста». Прославленным автором он стал в сороковые годы: по его произведениям ставили оперы и балеты, снимали кино

Павла Бажова часто называют сказочником, хотя он писал сказы — большая всё-таки разница. Сам он себя называл и писателем, и фольклористом (точнее собирателем фольклора), и писателем-фольклористом. «Я лишь обрабатываю фольклорный материал», — говорил он. Но в этой обработке чувствуется явное не учёное, а творческое вмешательство.
Он вырос в семье рабочего Сысертского завода, учился в Екатеринбургском духовном училище и в Пермской духовной семинарии. Отказавшись принять духовный сан, преподавал русский язык, а летом отправлялся в экспедиции по сбору фольклорного материала.
Интерес к народному творчеству возник у него ещё в детстве, благодаря семье и заводской среде. «О своей бабушке храню благодарную память, как о ласковом, немало повидавшем на своём веку трудностей и словоохотливом человеке, честно отработавшем свой срок. Но таких было немало и в ближайших избах. Поэтому выделять, что-то или другое слышал от своей бабушки, считаю невозможным. Да это и повело бы, как уже говорилось выше, вовсе не в ту сторону, куда надо. Единственно, что могу утверждать, — это первые детские сведения о Медной горе могли быть получены только от бабушки и отца, так как других лиц, знавших об этом, в ближайшем моём окружении не было. Но это уже сказано, и поэтому вопрос снимается. Отсюда вывод, вроде совета. Надо налегать не на бабушку, а на весь рабочий уклад того времени и особенно на «институт заводских стариков»… Для примера укажу на летние беседы на «завалинках» в праздничные дни или даже на такие обычаи, как супрядки, капустники

Особенно его интересовали так называемые присловья, побаски: «Стал записывать. Меня влекли те из них, где слышались отзвуки бурлачества, чусовской вольницы
Революция и Гражданская война прервала его фольклорные занятия. Бажов был эсером, затем большевиком, партийным работником и журналистом «первого призыва». Он писал статьи, повести, очерки и рассказы о дореволюционной жизни заводских рабочих, о войне. К сказам он пришёл как будто случайно.
В 1936 году фольклорист Владимир Бирюков подготовил сборник «Дореволюционный фольклор на Урале». В издательстве обратили внимание на то, что в книге никак не представлен рабочий фольклор. Бирюков ответил, что «он его нигде не может найти». «Меня это просто задело, — вспоминал позже Бажов, — как так, рабочего фольклора нет? Я сам сколько угодно этого рабочего фольклора слыхал, слыхал целые сказы. И я в виде образца принёс «Дорогое имячко»». В сборнике «Дореволюционный фольклор» и журнале «Красная новь» в 1936 году вышло несколько сказов, восстановленных Бажовым «по памяти через пятьдесят лет».

Через три года вышел сборник «Малахитовая шкатулка», который сразу принёс Бажову известность. Но писался он в особых условиях: на Бажова дважды доносили и дважды его исключали из партии. В 1937 году он ждал ареста. Об этом, как рассказывал Егор Гайдар, внук Бажова: «Его исключили из партии, сняли с работы. Потом он получил повестку из НКВД: явиться в такой-то кабинет. Понятно, что ничего хорошего от вызова не ждали. Бабушка сложила Павлу Петровичу «арестный чемоданчик». Обнялись, попрощались — и он пошёл. Сидит у кабинета. Проходит час, другой, день к концу — не вызывают. Кто-то другой начал бы метаться, сунулся бы в соседний кабинет. Но дед был человеком мудрым. Взял тихонько свой чемоданчик, вышел, вернулся к себе на Чапаева, 11, запер калитку — и год с лишним на улицу не выходил. Копался в огороде, вечерами разбирал бумаги: с двадцатых годов записывал уральский фольклор. Бабушка тоже из дому не выходила. С ними жила бабушкина сестра, Наталья Александровна, учительница — она стала «связью с миром». Затаились. Жили с огорода плюс крошечная зарплата Натальи Александровны. Потом оказалось, что это было правильное решение. В Свердловском НКВД как раз начались перекрёстные репрессии: сажали следователей 1937 года. В чехарде и бардаке про Бажова забыли. А он про себя не напоминал. Бумаги, которые дед разбирал, оформились в знаменитую «Малахитовую шкатулку». По сути, Бажов написал её за эти полтора года, ожидая ареста».
Прославленным автором он стал в сороковые годы: по его произведениям ставили оперы и балеты, снимали кино, его рассказы переводили на иностранные языки. Так, в 1944 году свердловский композитор Александр Фридлендер написал музыку к балету «Каменный цветок», в 1946 году на советские экраны вышел фильм-сказка с таким же названием (режиссёр Александр Птушко получил приз жюри на Каннском кинофестивале), а ещё через год сборник «Каменный цветок» выпустило французское издательство Le bateau ivre. В 1950 году композитор Кирилл Молчанов сочинил оперу, поставленную в музыкальном театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, и в том же году Сергей Прокофьев написал балет «Сказ о каменном цветке», премьера которого состоялась в 1954 году. Через три года балет показали на ленинградской сцене в постановке Юрия Григоровича, в этой версии его увидела и лондонская публика в 1961 году — в королевском театре Ковент-Гарден.

Всего Бажов написал пятьдесят шесть сказов. Они разные. Сам он, например, так определял их тематику: «Про старых людей да про Ермака, про Хозяйку горы да рудокопов, про дорогие каменья да золото, про живинку в деле да мастерство, про старое, бывалое да про витушку». Но, несмотря на тематическое разнообразие, это вполне замкнутый цикл, с устойчивыми типами характеров и функциями персонажей: в первую очередь это заводской люд, хорошо знакомый Бажову.
Практически все социальные типы будущих героев обрисованы уже в «Уральских былях», выпущенных в 1924 году: «горнозаводские крестьяне», «непременные рабочие заводов Сысертских», «коренные, родовые, исконные» бары, заправилы, управители, мастерко, приказные, судари или начальство; присудари, «шоша» — мелкое заводское начальство: «уставщики», надсмотрщики, надзиратели цехов; заводские («заводскими назывались не просто жители заводских селений, а те, кто имел какое-нибудь касательство к производству заводов»), спичечники и кустари, «чертозаи» — вольные охотники и рыболовы, «поторжные» («этим именем назывались чернорабочие, которые нанимались подённо — «по торгу»»), старики — рабочие в отставке, условно говоря — наиболее почитаемые Бажовым люди.
К ним добавляются волшебные (мифологические) персонажи: Великий Полоз, Огневушка-поскакушка, Синюшка, козёл Серебряное Копытце и другие. Но на самом деле, все они, включая кошек, ящерок, змей и козла с серебряным копытцем, — не более, как воплощения одного божества, одной «силы». Иными словами, в мифологическом мире Бажова существуют люди и хранящий сокровища Дракон во многих лицах, он же Женщина-Змея, Женщина-Ящерица — Хозяйка Медной Горы, ждущая своего жениха. Этот мир задаётся уже в первом очерке. Том самом, который Бажов принёс Бирюкову — «Дорогое имячко».

«Рабочий фольклор — это художественно изложенная народом история. Она дошла до нас в форме устных рассказов-воспоминаний старых производственников, в форме рабочих преданий», — был убеждён Бажов. Что же это за история? В «Дорогом имячке» Бажов рисует давнее, «доисторическое» время, когда на уральской земле жили «стары люди» (вогулы, угро-финские племена). Ростом огромные, они не сеяли, не пахали, не знали пороха, а жили охотой и рыбалкой. Золото и дорогие каменья лежали у них под ногами, но они не трогали их, поскольку не понимали, что это такое. Самородками они били зверя и птицу. Но настали другие, «исторические» времена. Сначала пришли татары, затем Ермак, затем лихие казаки. Последние были самыми плохими. Они проведали о земле, богатой золотом и дорогими каменьями, и пошли грабить «стары люди». Они были алчны. И был среди них один — «не знаю, как его звать-величать». Он пожалел старых людей, пришёл к ним и сказал, чтобы они береглись пришельцев, закопали в Азов-гору золото и каменья и никого к себе не пускали. И полюбила его одна из их племени и стала с ним. Между тем захватчиков становилось всё больше, и не только ружья, но и пушки были с ними. И пришедший велел им уходить, а полюбившая его дева осталась с ним. Жених её умер, а она продолжила хранить сокровища Азов-горы и ждать суженого. Ему она откроет все богатства, если он назовёт её имя. Это и есть Дракон, Демон или Хозяйка Медной горы. И на самом деле, ждёт она тех времен, когда исчезнет алчность и не нужно будет больше ничего хранить.
Хозяйка — это дева-оборотень, дух прежнего времени, вогульской эпохи, марийских племён. «Эти старые марийские боги, между прочим, имеют какое-то сходство с Хозяйкой горы, в них также теряются грани мрачного и весёлого», — замечал Павел Бажов. Да уж, весёлого мало. Вовсе не в мир знакомой сказки с её обыкновенным «жили долго и счастливо и добра наживали» погружает нас писатель-сказитель.
В сказах Бажова главное не труд и не мастерство, не любовь и не доброта, а бескорыстие. Золото — вот испытание для человека. Сама мысль о богатстве страшна, потому что это покушение на владения Хозяйки Медной горы. Она ревниво оберегает своё царство, своё подземное хранилище. И даже встреча с ней доброго человека не сулит ничего хорошего. «Вот она, значит какая Медной горы Хозяйка! Худому с ней встретиться горе, а доброму — радости мало», — так завершает Бажов свой сказ.