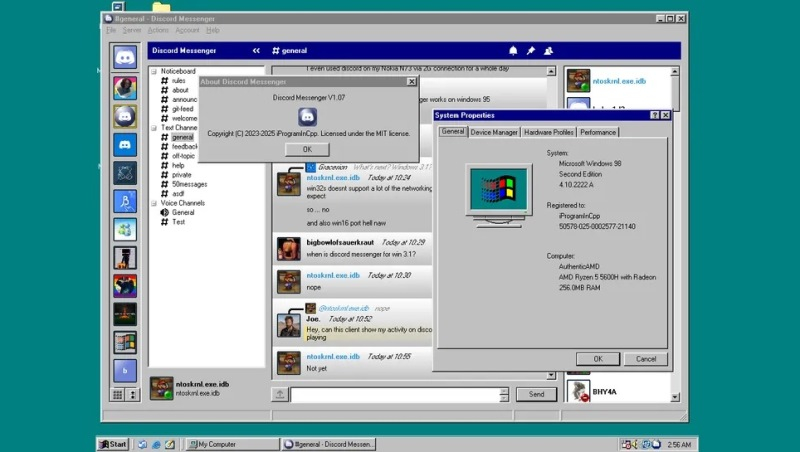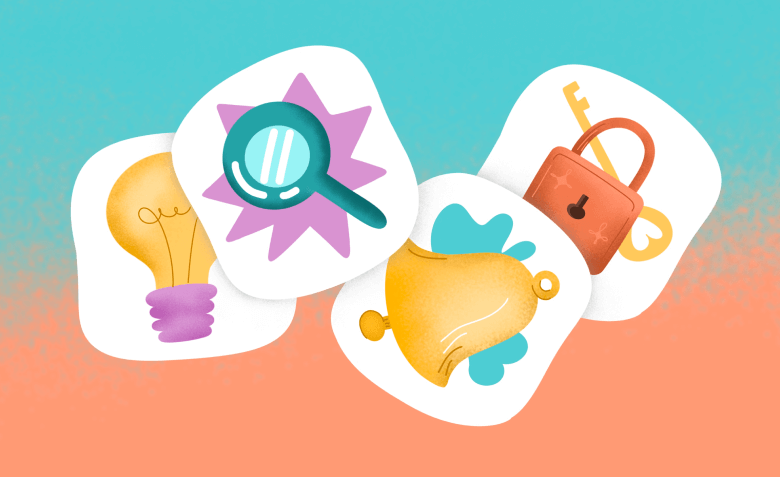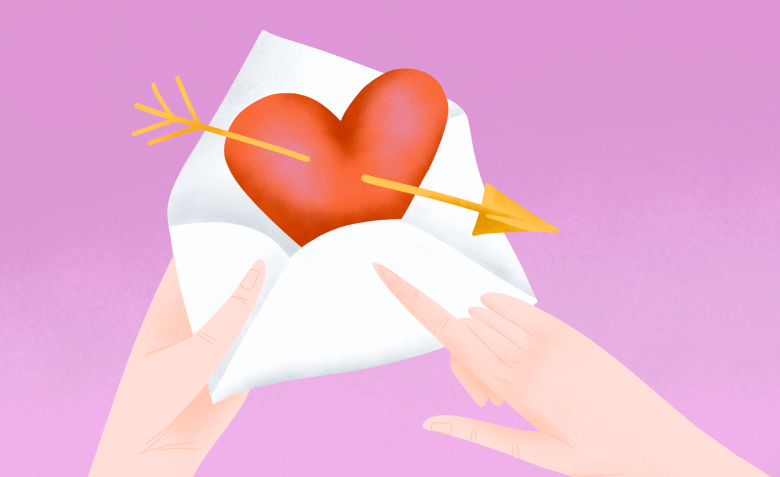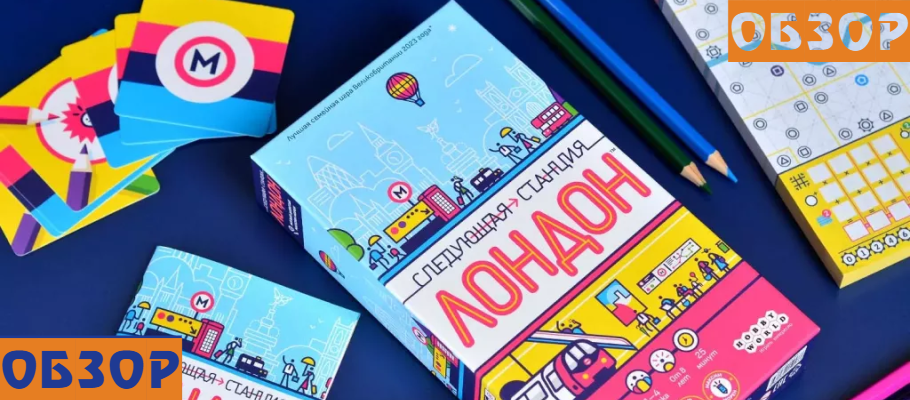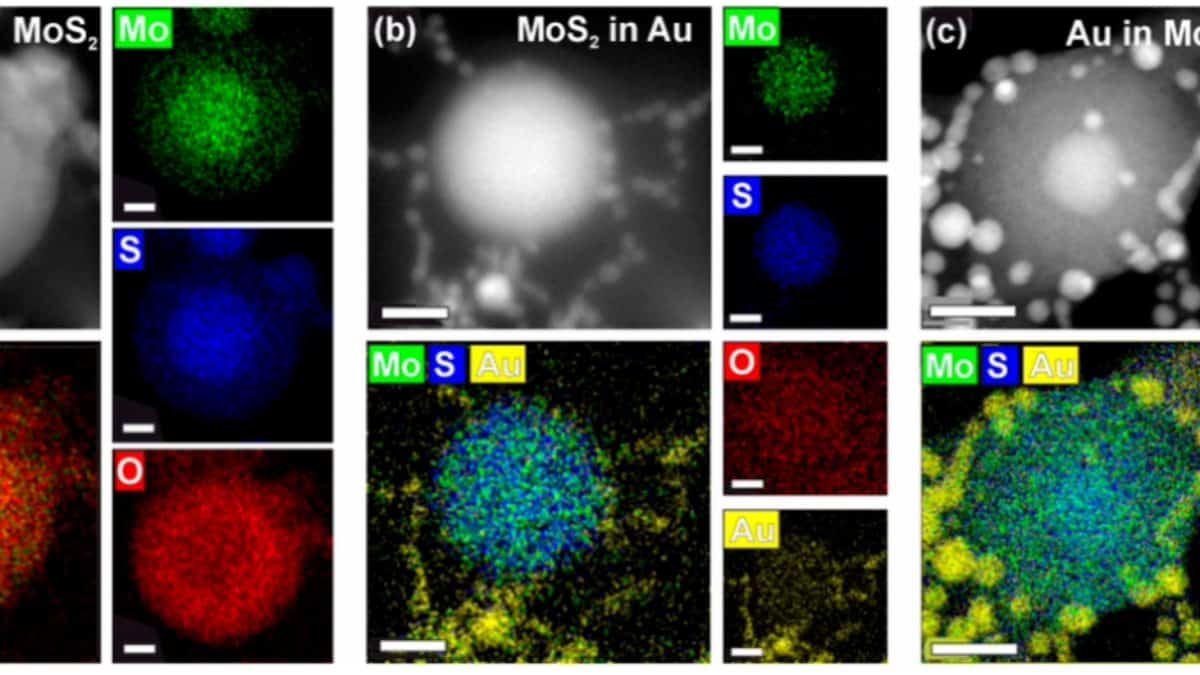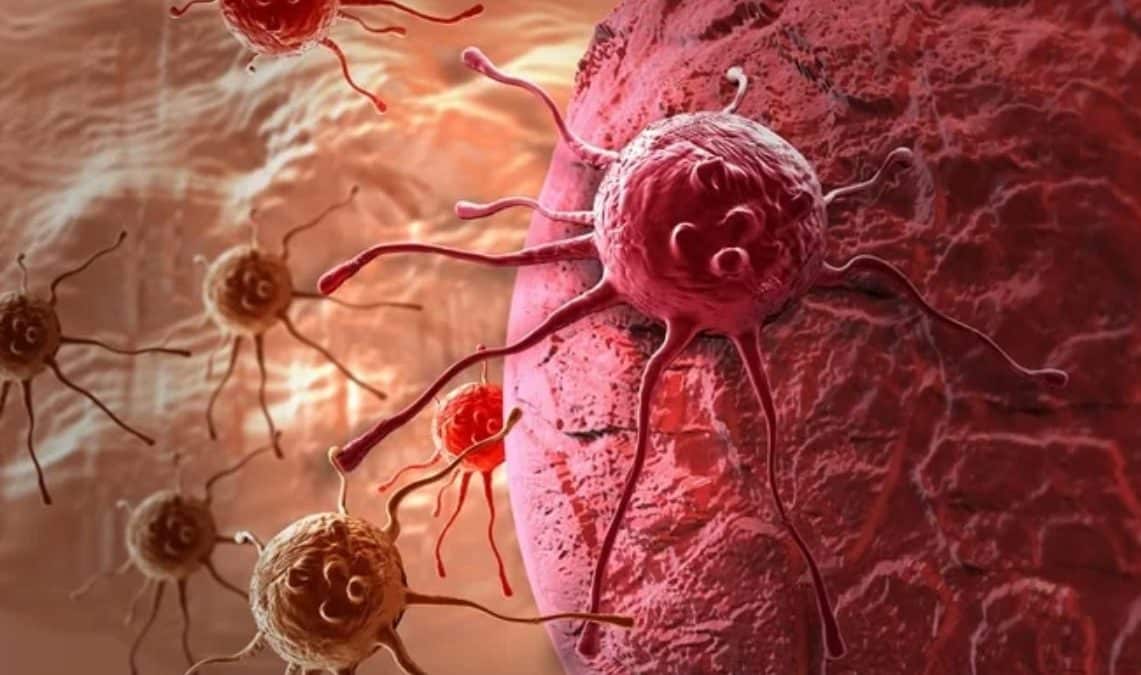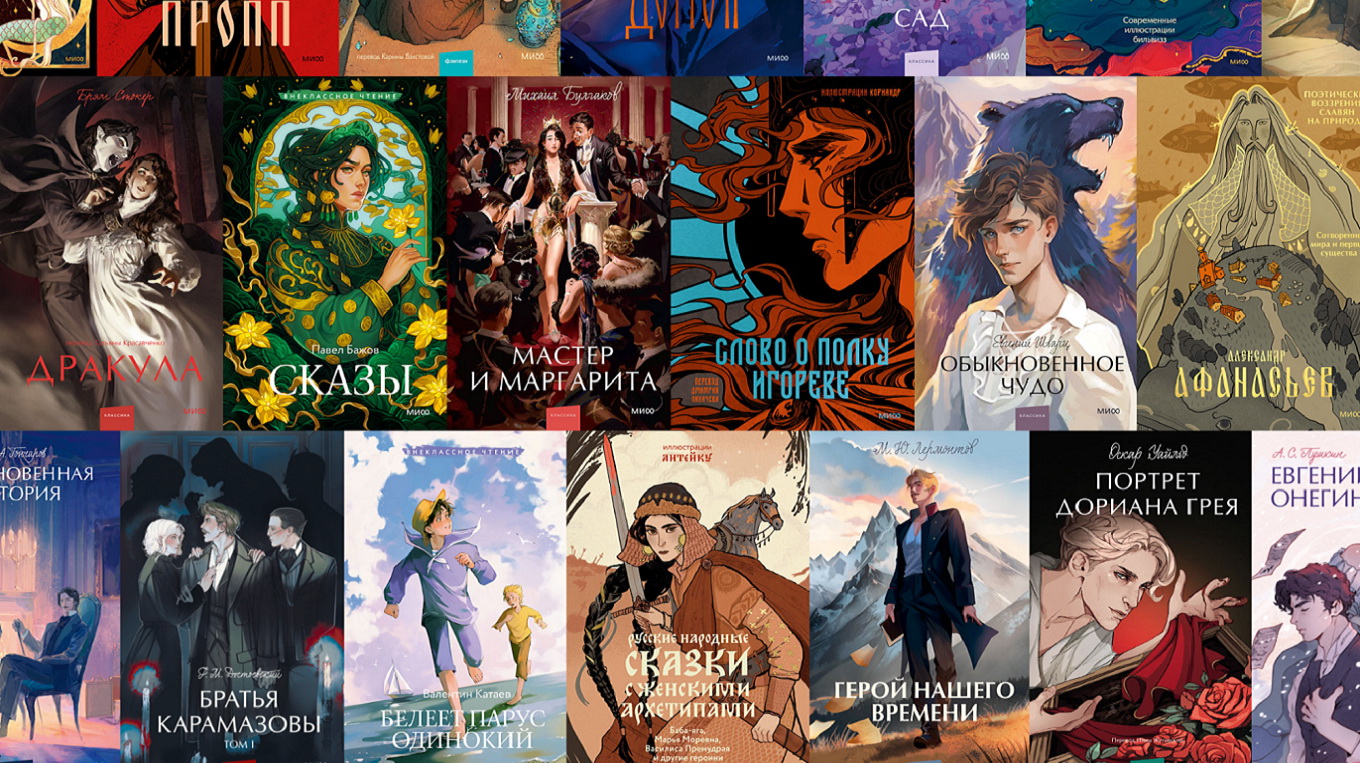Трамп ввел тарифы на импорт товаров. Понятно еще, зачем против Китая — но при чем тут Канада и Мексика? Экономического смысла в этом мало. Но это не значит, что смысла вовсе нет
В США с 4 февраля начинают действовать тарифы на импортные товары из трех крупнейших стран-партнеров: 25% — на канадские и мексиканские, 10% — на китайские. Большинство экспертов настаивают, что экономического смысла в этом мало — более того, новая политика, скорее всего, лишь навредит американской промышленности. Но дело, судя по всему, вовсе не в экономике.


В США с 4 февраля начинают действовать тарифы на импортные товары из трех крупнейших стран-партнеров: 25% — на канадские и мексиканские, 10% — на китайские. Большинство экспертов настаивают, что экономического смысла в этом мало — более того, новая политика, скорее всего, лишь навредит американской промышленности. Но дело, судя по всему, вовсе не в экономике.
The Wall Street Journal в редакционной колонке называет действия Трампа «самой глупой торговой войной в истории». Главное американское деловое издание привело, пожалуй, наиболее внятную аргументацию критиков тарифной политики новой администрации. Крупные индустрии, будь то производство автомобилей, телефонов или пива, полагаются на глобальные или, по меньшей мере, региональные цепочки поставок. Многие компоненты таких товаров пересекают государственные границы по много раз, прежде чем обрести свое место в конечном продукте. Если производителям каждый раз придется платить тарифы, в лучшем случае поднимутся цены, а в худшем — производство станет невыгодным и закроется.
Это базовый постулат неолиберальной системы свободной торговли: все рынки должны быть открыты, и конкуренция свободных экономических агентов сама приведет все к экономическому равновесию (весь спрос будет удовлетворен, все производственные мощности задействованы, цены оптимальны для всех участников обмена).
Трамп, похоже, всерьез намерен эту систему разрушить. И критикуют его в основном именно за это: система работала — а он решил ее сломать. Причем едва ли не все наблюдатели недоумевают: зачем?
Трамп и его сторонники в ответ на этот вопрос пускаются в рассуждения о том, как другие страны наживаются за счет США, наводняют ее преступниками и наркотиками. То есть, собственно говоря, уходят от ответа — за это их критикует даже флагман американского консерватизма The National Review. Никому не удается обнаружить чисто экономический смысл в новой тарифной политике. Возможно, потому что его нет.
В последние 30 лет или больше в США существовал широкий консенсус в отношении политики свободной торговли: ее поддерживали и республиканцы, и демократы, и крупный бизнес. Последний благодаря открытым рынкам мог переносить большие части производственных процессов за границу — и экономить на зарплатах (в Китае рабочая сила значительно дешевле), на электричестве (в Канаде оно дешевле благодаря развитию гидроэлектроэнергетики) и прочем.
Экономический рост, обеспеченный этой политикой, был большим, но неравномерным. Расцвели банки и прочие финансовые компании в Нью-Йорке и других больших городах на восточном побережье США и высокотехнологичные компании западного побережья — а промышленная середина страны осталась в проигрыше: заводы и фабрики закрылись, множество людей — преимущественно белых рабочих — оказались вынуждены перейти на менее высокооплачиваемую работу или вовсе лишились работы. Трамп пообещал им вернуть работу и почет — и именно их голоса обеспечили его победу на выборах 2024 года.
Следует оговориться: многие эксперты оспаривают все основные положения этой теории. Например, настаивают, что причиной деиндустриализации в США стала не глобализация, а общий рост производительности труда и прочие фундаментальные факторы. Еще они утверждают, что вовсе не работа в промышленности, а расовая идентичность и низкий уровень образования определяли итоги голосования за Трампа. Как бы то ни было, «Трамп — президент рабочего класса» — это нечто вроде «стандартной модели», от которой теперь отталкиваются большинство аналитиков.
Некогда главными критиками глобализации были представители относительно бедных стран. Открытые рынки и глобальная свободная конкуренция, говорили они, была бы выгодна всем, если бы все находились в равных условиях. Но фактически это не так: многие страны страдают от неэффективного государственного управления, слабой образовательной системы и прочих внеэкономических трудностей, которые снижают их конкурентоспособность. Для них открытие своего рынка равнозначно консервации бедности: национальное производство просто не сможет подняться, задавленное дешевым импортом. На основании этого соображения в середине ХХ века аргентинский экономист Рауль Пребиш разработал концепцию импортозамещения.
Теперь эту риторику и нечто вроде этой политики взяла на вооружение самая богатая страна мира. А своих критиков (таких как авторы колонки в The Wall Street Journal) Трамп называет «глобалистами».
В его устах это страшное оскорбление. Оно подразумевает, что человек (или издание, как в этом случае) идентифицирует себя не с американским народом, его интересами и его ценностями, а с неким «глобальным человечеством».
В этом, видимо, и состоит главный смысл новой тарифной политики — и он совсем не экономический. Трамп, прежде всего, стремится продемонстрировать своим избирателям, что их интересы для него превыше абстракций вроде экономического роста. Он так прямо и говорит: «Будет ли тяжело? Да, возможно (а возможно, и нет). Но мы сделаем Америку снова великой, и это будет стоить той цены, которую придется заплатить».
Читайте также
«Медуза»