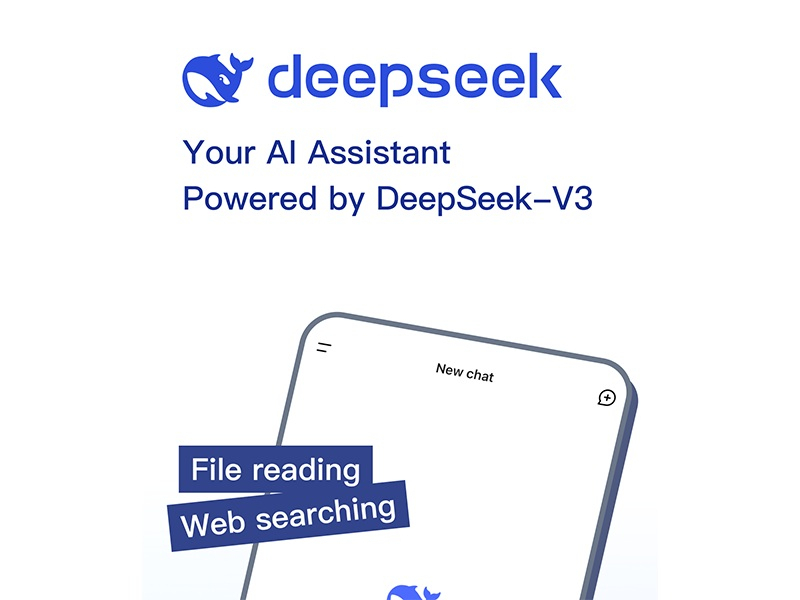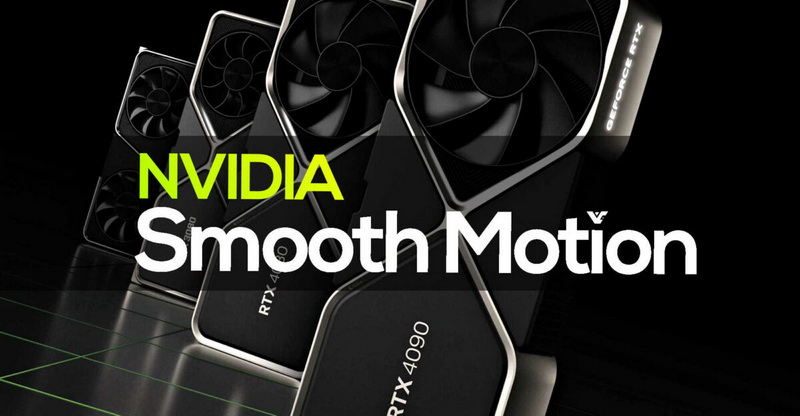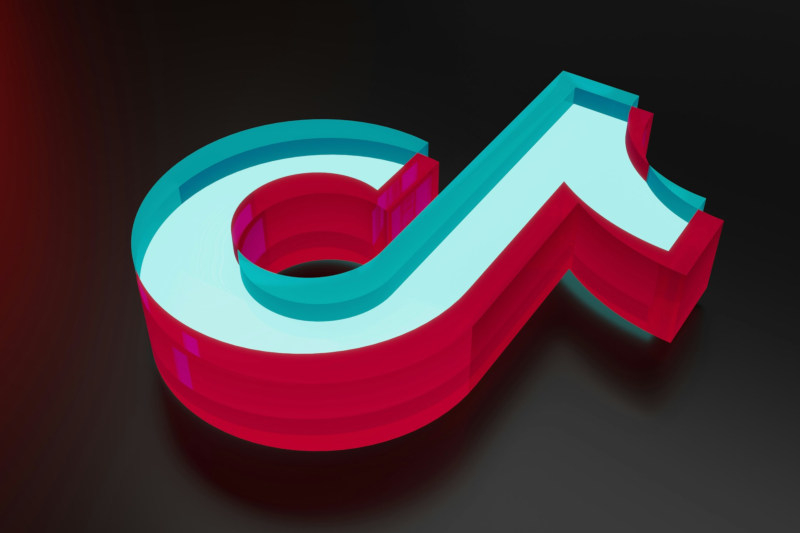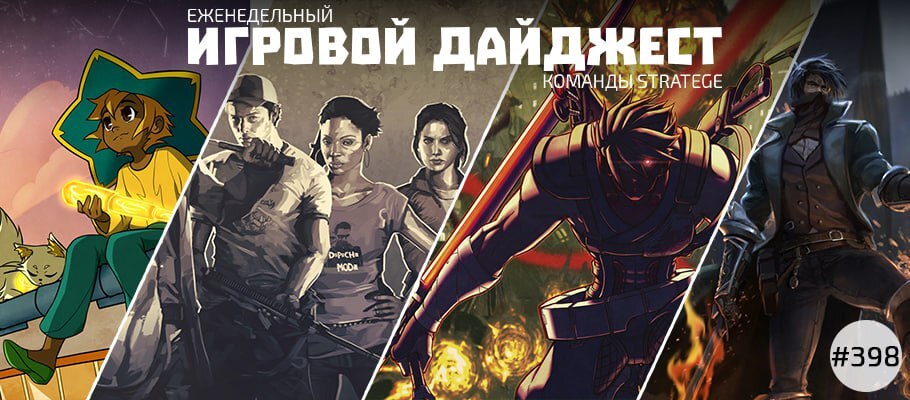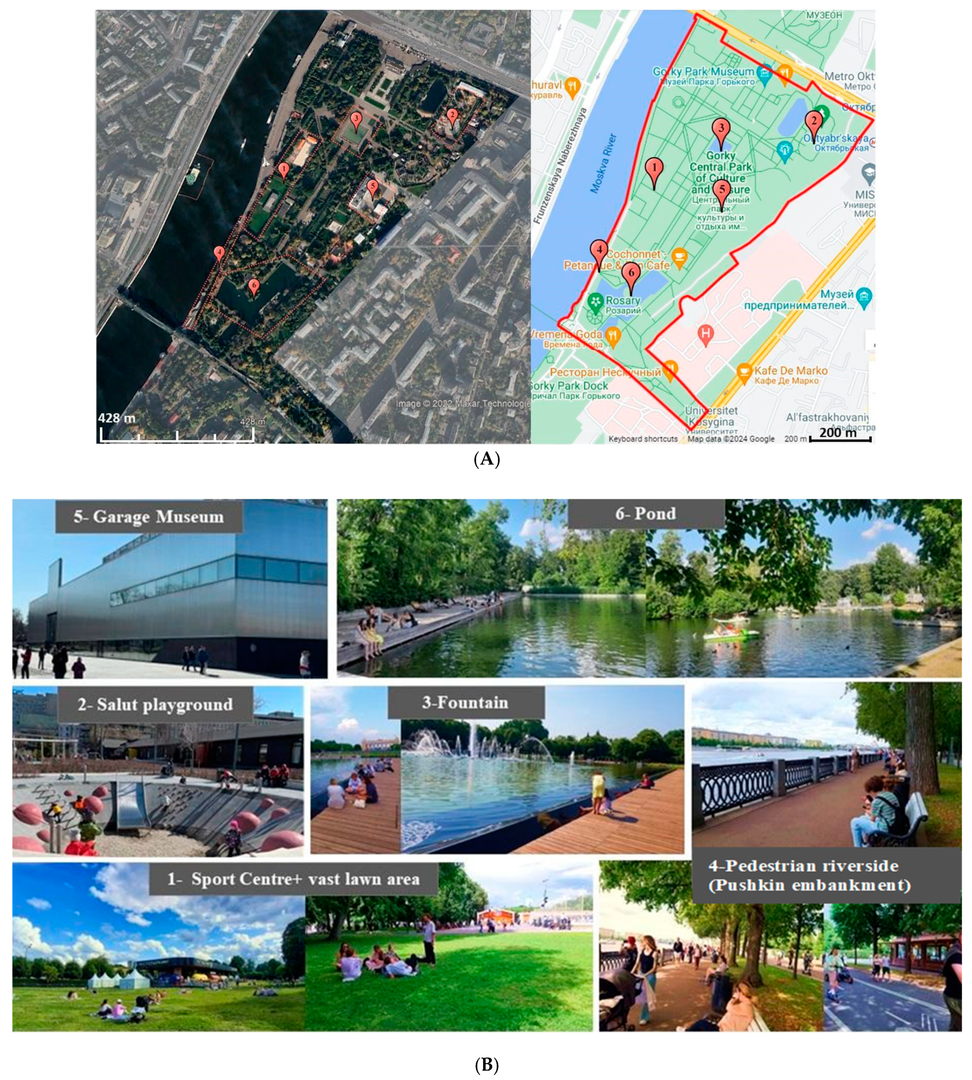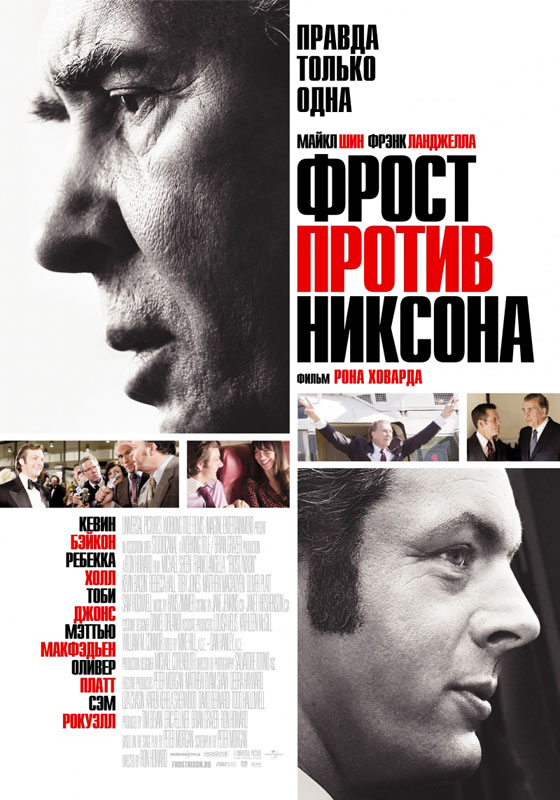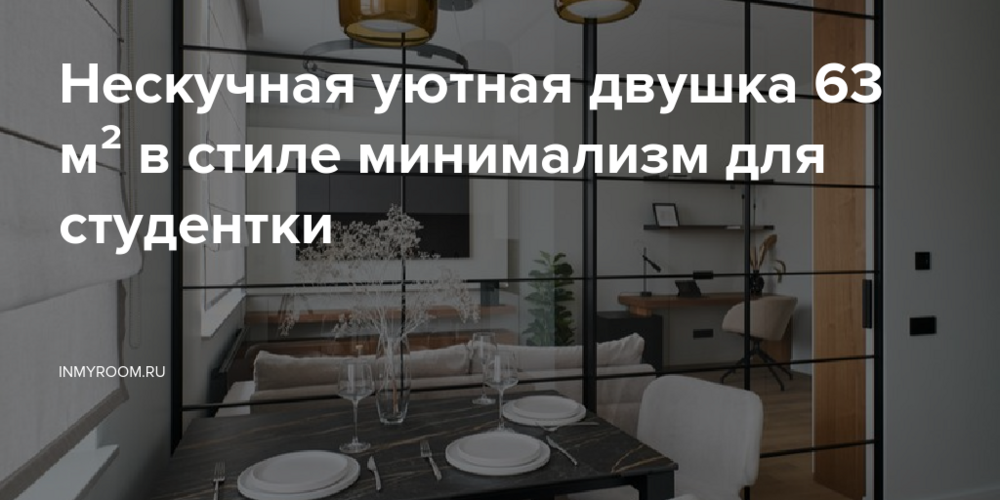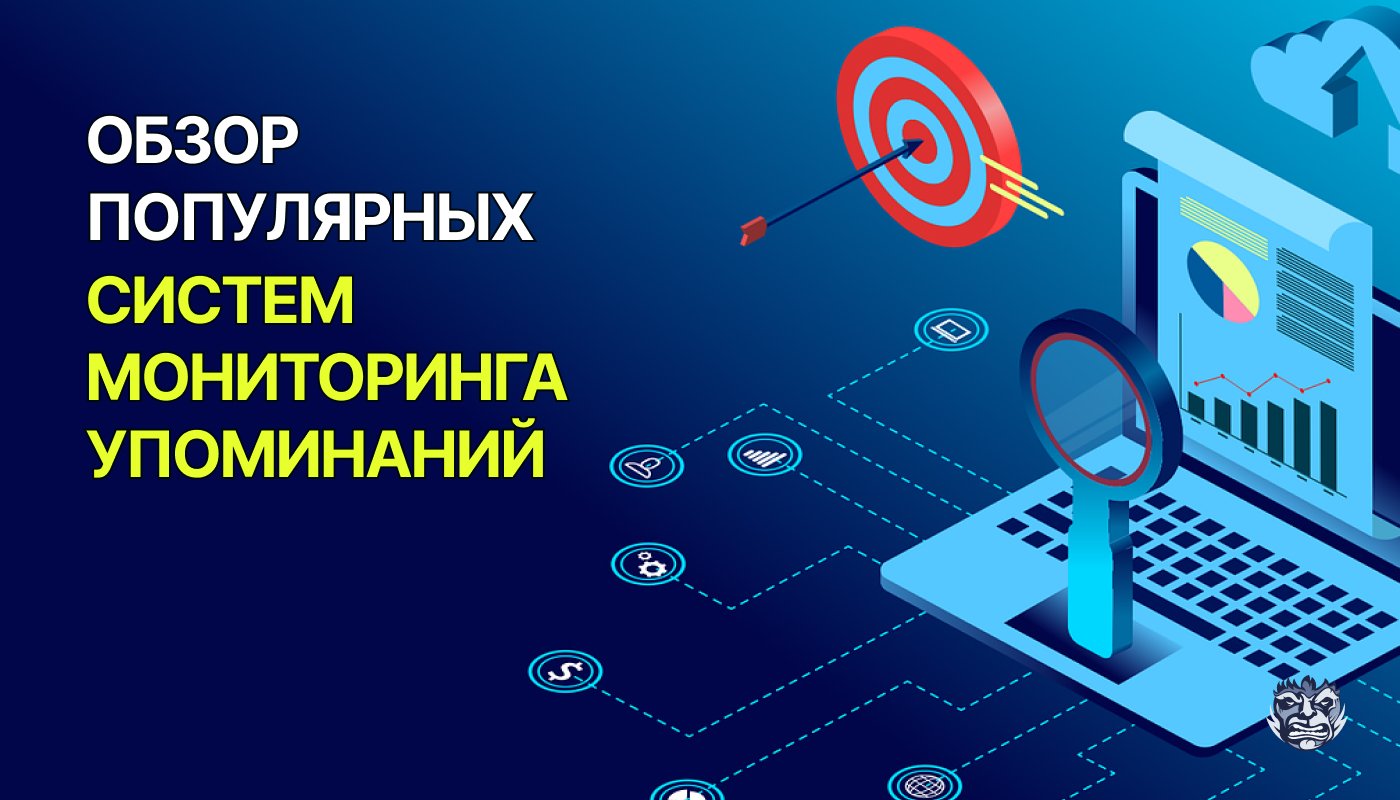Aeon: как Остин и Дарвин сошлись в вопросе красоты
В 1833 году, спустя два года после начала своего пятилетнего путешествия на корабле «Бигль», 24-летний Чарльз Дарвин написал письмо своей сестре Кэтрин, умоляя её о помощи. Но просил он не о еде или деньгах (хотя и они были на исходе, учитывая его неоплачиваемую должность корабельного натуралиста), а о чём-то более важном: книгах. «Когда вы прочтете […]

В 1833 году, спустя два года после начала своего пятилетнего путешествия на корабле «Бигль», 24-летний Чарльз Дарвин написал письмо своей сестре Кэтрин, умоляя её о помощи. Но просил он не о еде или деньгах (хотя и они были на исходе, учитывая его неоплачиваемую должность корабельного натуралиста), а о чём-то более важном: книгах. «Когда вы прочтете это, боюсь, вы подумаете, что я похож на мичмана из „Убеждения», который никогда не писал домой, разве что когда хотел попросить милостыню: главное, чтобы было больше книг; этих самых ценных из всех ценных вещей».
И Дарвин, и капитан корабля Роберт Фицрой были глубоко озабочены тем, какие книги взять на борт и как вместить их как можно больше. Фицрой писал, что «учитывая ограниченность свободного места на таком маленьком корабле, мы ухитрились взять с собой больше инструментов и книг, чем можно было бы предположить, спрятав их в сухих и надежных местах». В течение пяти лет Дарвин жил в каюте, которая также служила корабельной библиотекой; возможно, около 400 томов были втиснуты в пространство размером примерно 10 на 11 футов. Он спал и работал в окружении громоздких книжных шкафов, переплеты которых выветрились от влажного морского воздуха и слегка покачивались в такт приливу.
Его любимые книги понятны из его бумаг, и его ссылка на «Убеждение» Джейн Остин в 1833 году — одна из многих. Двумя годами ранее, когда он только начал путешествие в качестве свежего выпускника университета, он сказал своей сестре Кэролайн: «Я не буду брать «Убеждение», поскольку капитан сказал, что не будет его читать, и нет никакой опасности, что я его забуду». Его переписка пестрит ссылками на Остин, что свидетельствует о подлинном знании её произведений. «Lydiaish» означает кокетливость, «like Mrs. Bates» — чрезмерную заботу, «like Lady Cath. de Burgh» — суровость, а «a Captain Wentworth» было ласковым выражением его кузины по отношению к капитану Фицрою. В его личных записных книжках также упоминаются многочисленные персонажи Остин, а три романа Остин фигурируют в его списке для чтения на 1838-40 годы.
Хотя Остин никогда не сталкивалась с исследованиями Дарвина — она умерла в 1817 году, — её собственное творчество было пропитано той же научной и философской традицией, которая проложила путь к его теории эволюции. Она писала в эпоху, одержимую идеей объяснения мира природы; слово «биология» вошло в обиход в Англии около 1800 года. Острое, почти клиническое внимание Остин к деталям напоминает стиль ранних британских натуралистов. В книге «Джейн Остин и Чарльз Дарвин» (2008) литературовед Питер Грэм проводит параллели между чувством Остин и чувством Дарвина, утверждая, что оба «были внимательными наблюдателями окружающего мира, наблюдателями, которые преуспели как в подмечании микрокосмических особенностей, так и… в распознавании космического значения этих мелких деталей».
Их также объединяла философски насыщенная связь между миром природы и эстетической красотой. Дарвин был очарован капризной орнаментальностью — природными особенностями, такими как павлиньи плюмажи, которые, казалось, не служат никакой другой цели, кроме красоты, даже в ущерб другим видам биологической пригодности. Он увидел парадокс: натуралист утверждает, что все существующее может быть объяснено в естественных терминах. И всё же есть смысл в том, что орнамент, в своей избыточности, выходит за рамки того, что диктует природа. Как натуралист может понять смысл «чрезмерной» красоты, «чудесных крайностей» природы, которые, как кажется, бросают вызов замкнутой логике натуралистического мировоззрения или выходят за её пределы?
Остин предвосхищает утверждение Дарвина о том, что эстетическая орнаментация — это естественная человеческая практика, которая ставит нас в один ряд с более широким миром природы. Подобно Дарвину, она борется с кажущейся избыточностью орнамента и напряжением между натурализмом и эстетическим «излишеством». Она выразительно пишет об этом столкновении в романе «Гордость и предубеждение»: «Я никогда не забуду её утренний вид. Она действительно выглядела почти дикой», — сплетничает миссис Хёрст после того, как Элизабет бежит через грязные поля, чтобы навестить больную сестру. Хуже всего: «её подъюбник; надеюсь, вы видели её подъюбник, на шесть дюймов погруженный в грязь, я абсолютно уверена». Эстетика буквально вымокла в естественном; человеческие украшения забрызганы грязью.
В его любви к творчеству Остин мы видим Дарвина, о котором не так часто говорят: он глубоко почитал красоту, эстетику и искусство. В неустанной наблюдательности Остин мы видим скрупулезный научный взгляд художника. Дарвин и Остин представляют собой две стороны одной и той же дилеммы, стоящей перед Янусом. Какова роль красоты в мировоззрении натуралиста? Какова роль натурализма в мировоззрении художника?
Остин одержима естественностью. Поиск по ключевым словам показывает, что в шести своих романах она использует тот или иной вариант слова «естественный» более 500 раз. В «Нортенгерском аббатстве» (1817) Кэтрин пожинает плоды «естественной глупости красивой девушки» и одержима «чувствами скорее естественными, чем героическими». В «Гордости и предубеждении» (1813) Лидия обладает «высоким животным духом» и «естественным самообладанием», а в «Чувстве и чувствительности» (1811) «природная застенчивость» Эдварда затмевает его («отнюдь не недостаточный») «природный вкус». В «Мэнсфилд-парке» (1814) мы видим «естественные претензии» и «естественные способности», а в «Эмме» (1816) «естественные достоинства» Гарриет сталкиваются с искусственными классовыми границами. В последнем романе Остин, возможно, любимом Дарвином, «Убеждение» (1818), Энн рассуждает сама с собой, настаивая на том, «насколько естественным» является «забвение прошлого», когда она пытается забыть Фредерика и его «естественное чувство любопытства».
Интерес Остин к естественному очевиден. Её отношение к натурализму определить сложнее. Есть два тесно связанных аспекта, в которых Остин можно назвать натуралисткой. Во-первых, она стилистически связана с натурализмом как художественным направлением, или тем, что Питер Грэм называет «избирательным и искусным манипулированием деталями». В своём манифесте натурализма «Экспериментальный роман» (1893) Эмиль Золя охарактеризовал его как неприятие «иррациональных и сверхъестественных объяснений». В «Нортенгерском аббатстве» Остин делает свой литературный натурализм прозрачным; она критикует «неестественные персонажи» и «невероятные обстоятельства» популярного журнала как клеймо на его литературных достоинствах. Нортенгер выражает через сатиру то, что Золя утверждает в своём манифесте: «Природа, существуя, даёт о себе знать, или, по крайней мере, та часть природы, тайну которой нам раскрыла наука и о которой мы больше не имеем права романтизировать».
Этот натурализм подразумевает не отрицание эмоций (как это часто делают героини Остин), а, по словам Золя, «необходимость проанализировать гнев и любовь, выяснить, как именно эти страсти действуют на человека» путём тщательного наблюдения. Для него натуралистическая литература даёт нам «человеческие данные», и действительно, для Грэма Остин — мастер формы, таксономизирующий социальные экосистемы стратегически ограниченных «познаваемых сообществ», от Хайбери до Бата, в манере, не отличающейся от того, как Дарвин анализирует экосистему Галапагосских островов. Она трезво подходит к изучению обыденных вещей, которые естествоиспытатель отметил бы в своём ежедневнике; «из всей этой мелочи она ничего не упускает и ничего не пересказывает», — пишет Вирджиния Вульф в 1925 году о стиле Остин. Точно так же в письме 1850 года, критикующем Остин, Шарлотта Бронте осуждает её «миниатюрную деликатность». Остин — натуралистка по форме и методологии. Использование деталей и тщательно ограниченный выбор сферы действия позволяют ей добиваться особого реализма и психологической остроты.
Остин помещает человека в преемственность с более широким миром природы. Второй способ, которым Остин взаимодействует с натурализмом, выходит за рамки участия в литературном движении и касается её философских обязательств. Как резюмирует Грэм, философский натуралист — это «тот, кто верит, что естественные причины дают достаточное объяснение миру, его происхождению и развитию». Эта философская точка зрения обычно характеризуется крайним эмпиризмом, который превозносит научный метод как высший или даже единственный путь к истине. Грэм провозглашает Остин и Дарвина «возможно, великими английскими эмпириками XIX века». Ясный, холодный взгляд Остин, направленный «на конкретные детали мира», ставит её в один ряд с философами-эмпириками, отвергавшими существование всего, что не может быть проверено с помощью чувственных данных, то есть таких нематериальных вещей, как Бог, разум/сознание, платоновские универсалии, трансцендентный моральный закон и т. д.
В эссе 2005 года романист Иэн Макьюэн заметил, что «если почитать рассказы о… отрядах бонобо… то можно увидеть повторение всех основных тем английского романа XIX века» — первобытной борьбы за ресурсы, товарищей, размножение и продолжение рода. Возможно, в этом нет ничего удивительного, ведь подъём реалистической литературы в XIX веке совпал с появлением биологии как естественной науки. Для Грэма натурализм Остин — нечто большее, чем просто метафора. Она участвует не только в литературном движении натурализма, которое отдавало предпочтение реализму и деталям, но и в редукционистском эмпиризме, возникшем в её время и достигшем апогея с дарвинизмом. Применяя наблюдательный метод естественных наук, Остин помещает человека в преемственную связь с более широким природным миром. В её романах, пишет Грэм, «люди и их общества воспринимаются как часть природы»; Остин «со скрупулезным, проницательным и относительно беспристрастным вниманием вглядывается в богатые и грязные детали окружающего мира». Её интересуют не абстрактные универсалии; Вульф жалуется, что в её произведениях не хватает «лун, гор и замков». Скорее, Остин интересуют животные особенности ухаживания и родственных связей, «особи, обречённые на вымирание (эти социальные динозавры — помещики Эллиоты)», как выражается Грэм, и эволюция социальных механизмов, более приспособленных к выживанию, таких как социальная мобильность Уэнтворта или необычная динамика браков Крофтов.
Действительно, работа Остин представляет собой некий повседневный аналог научного метода. Я бы утверждал, что основной способ, с помощью которого её герои продвигаются в своём нравственном развитии, — это форма эпистемического смирения и восприимчивости к доказательствам. Научившись видеть за пределами своих мотивированных предубеждений, героини Остин способны воспринимать новую информацию, которая позволяет им лучше понять свой социальный мир. Это можно наблюдать повсюду в произведениях Остин: Элизабет пересматривает свою гипотезу о характере Дарси в свете обновлённых доказательств рокового письма; Эмма постоянно наблюдает и модифицирует гипотезы об идеальных парах; Марианна пересматривает суждения о полковнике Брэндоне — список можно продолжать. В «Нортенгерском аббатстве» особенно ярко проявляется натурализм Остин, сочетающий в себе как стилистические, так и философские аспекты. Ева Дадлес, написавшая в 2008 году в журнале «Эстетическое воспитание», утверждает, что «Нортенгерское аббатство» представляет собой «натуралистический аргумент в пользу принятия натурализма… Шаг за шагом Остин переводит нас от мелодрамы к натурализму, согласовывая с нами эволюцию наших реакций и наших симпатий». В своём письме 1850 года Бронте сетует на то, что Остин «игнорирует… невидимую основу реальности». Если Остин — натуралистка, то это не провал, а триумф, потому что для натуралиста не существует такого «невидимого».
Острая наблюдательность Остин распространяется и на её богатое эстетическое восприятие. И всё же красота занимает странное место в мировоззрении натуралиста. Дарвин, который развивает натуралистическое мировоззрение до новых крайностей, был глубоко обеспокоен «украшениями» в животном мире как потенциальной угрозой его теории естественного отбора. В книге «Эстетика после Дарвина» (2019) философ Винфрид Меннингхаус описывает длившееся десятилетиями исследование Дарвином орнамента как одержимость, вызванную главным вопросом: как объяснить случаи кажущейся излишней красоты в рамках его эмпирического научного мировоззрения? В книге «Происхождение человека» (1871) Дарвин удивляется тому, что «развитие некоторых структур» — таких как рога, перья и так далее — «было доведено до удивительной крайности, а в некоторых случаях до такой крайности, которая, с точки зрения общих условий жизни, должна быть несколько вредной». Перья павлина излишни для его биологической пригодности; их громоздкий размер может быть фактически противопоказан для индивидуального выживания любой птицы. И поэтому их существование, кажется, противоречит натуралистическому объяснению.
В своих ранних работах Дарвин «представлял себе красоту прежде всего как скандальное излишество, как потенциально саморазрушительную роскошь», — пишет Меннингхаус. Это было глубокой проблемой для натуралистического мировоззрения, в котором все, что существует, строго объясняется эволюцией. Избыток — это неестественное отклонение, его мнимое существование — контрапункт теории. В романе «Чувство и чувствительность» мы видим яркий пример разрушительной тенденции орнамента: булавка на платье леди Миддлтон прокалывает ее отпрыска, «слегка царапая шею ребенка», так как «от этого узора нежности раздаются такие яростные крики». Порядок жизни и ее увековечивание через материнство омрачены крошечным украшением.
В своих поздних работах Дарвин предлагает способ примирить противоречие между очевидным существованием чрезмерной красоты и отрицанием излишеств в натурализме. Его решение заключается в парадоксе, лежащем в основе бытия: излишество само по себе необходимо и, как таковое, никогда не бывает лишним. Он приписывает орнаменту биологическую функцию в половом отборе. Меннингхаус пишет, что «хотя [они] в основном являются недостатками в „общих условиях жизни“, эстетические украшения обеспечивают конкурентные преимущества в узкоспециализированном контексте сексуального ухаживания». Как пишет Дарвин в книге «Происхождение человека», «способность очаровывать самку иногда была важнее, чем способность побеждать других самцов в бою».
Отчасти сама бесцельность этих эстетических особенностей делает их желанными. Вспоминается хрупкая ткань платья миссис Аллен из «Нортенгера» на первом балу в Бате, непрактичная для танцев, но «такая нежная муслиновая», не похожая ни на что «во всей комнате, уверяю вас». Его деликатность препятствует выполнению функции платья, и все же именно эта деликатность отличает платье и делает его привлекательным. Придумав функциональное объяснение появлению излишеств, Дарвин может понять смысл орнамента в чисто натуралистических рамках. Обилие орнамента отнюдь не противоестественно, это явление, присущее миру природы и требуемое им. То, что мы можем воспринять как чрезмерную красоту, — иллюзия. В природе нет ничего по-настоящему лишнего. Эти примеры «экстремальной красоты» выполняют важнейшую функцию, обеспечивая конкурентные преимущества в процессе полового отбора.
Меннингхаус применяет логику Дарвина, в частности, к моде. Для него мода — это человеческая практика, которая участвует в процессе эволюции. В самом деле, если исходить из натуралистического мировоззрения, то чем еще может быть мода? Мода — это беглый культурный процесс явно «капризного» возникновения и (повторного) навязывания эстетических предпочтений», — пишет Меннингхаус. Мода не является чем-то посторонним для природы, она — механизм ее процессов, порождающий постоянные эстетические вариации в интересах полового отбора».
Дарвин и его сторонники сублимируют моду в совершенно естественную стратегию полового отбора. Однако не все разделяют его оптимизм по поводу натуралистического объяснения орнамента. Вальтер Беньямин в 1930-х годах выступил против дарвиновского прочтения моды. Находясь под влиянием сложной смеси еврейского мистицизма, идеализма и романтизма, Беньямин противится поглощению красоты природной сферой. Теоретик Алексия Бретас утверждает, что для Беньямина, в отличие от Дарвина, мода — это «необходимое отрицание естественного хода вещей», алхимический процесс, в ходе которого природное сырье (включая наши собственные тела) преодолевает свою эволюционную судьбу. Для Беньямина мода «делает с природной материей то же, что поэты-романтики сделали с письменным языком; они превратили предсказуемую сферу в бесконечную вселенную с самыми сверхъестественными и фантастическими возможностями», — пишет Бретас. При таком прочтении наше человеческое стремление к красоте, даже если она непрактична, бесполезна и опасна, представляет собой выход за пределы нашей эволюционной природы. Избыточность украшений, как громоздкие перья павлина или шелковый подъюбник женщины, мешающие биологической пригодности, становится протестом против ограничений натурализма и свидетельствует о таинственной трансцендентности, пронизывающей существование. Как пишет Беньямин в своем незаконченном «Проекте аркад» (1927-40): «Вечное, в любом случае, гораздо больше похоже на оборку на платье, чем на какую-то идею».
Если Остин — строгая натуралистка, можно было бы ожидать, что в этом споре она встанет на сторону Дарвина. Но картина, которую мы получаем в ее романах, сложнее. Внимание Остин к моде часто носит уничижительный характер. В основном одеждой озабочены злодеи, в то время как героиня больше склонна «одевать свое воображение». И все же Грэм использует наблюдения Остин за одеждой как основной пример ее натуралистического внимания к деталям. Ее наблюдения за женской модой в письме 1814 года «аналогичны, можно сказать, увлечению Дарвина разнообразными и причудливыми породами домашних голубей». Даже сатирически высмеивая некоторые портновские пристрастия, Грэм утверждает, что ее пристальное внимание выдает «неподдельный интерес».
В лаконичном абзаце второй главы «Нортенгерского аббатства» она намекает на дарвиновскую сублимацию моды в сферу воспроизводства. Миссис Аллен, по сути, бесполезна, тщеславна, глупа и «пустячна». Однако «в одном отношении она замечательно подходила для того, чтобы вывести молодую леди в свет… Платье было ее страстью». Самое безобидное удовольствие миссис Аллен от того, что она прекрасно выглядит, в значительной степени тривиально и излишне, за исключением специализированной сферы ухаживания. Ее внимание к платью Кэтрин делает ее инструментом в игре сексуального отбора. Она может тщательно подобрать идеальное украшение, чтобы дебют Кэтрин в качестве сексуальной перспективы был успешным. Конечно, эта функция не обходится без других прагматических недостатков: «Миссис Аллен так долго одевалась, что они вошли в бальный зал только поздно». В этот момент Остин, подобно Дарвину, как бы намекает, что даже излишняя декоративность может быть воспринята как вполне естественное явление.
И все же в целом Остин постоянно представляет излишние украшения как неестественные и ненормальные. Бронте пишет, что Остин с «благовоспитанной усмешкой» относится к «экстравагантному», и действительно, такое отношение прослеживается во всем ее творчестве. О портновском вкусе Остин лучше всего судить по словам, которые она вкладывает в уста злодеев. Возникает образ умеренности, простоты, практичности. Например, в «Эмме» она безжалостно высмеивает пристрастие миссис Элтон к излишествам. Сразу после того, как миссис Элтон заявляет, что ей «очень не нравится идея быть чрезмерно накрашенной — просто ужас перед нарядами», она объясняет, что все же «должна сейчас надеть несколько украшений». Не успела она перевести дух, как ей пришло в голову «приделать такую отделку к моему белому и серебряному поплину. Как вы думаете, это будет хорошо смотреться? В «Убеждении» Остин косвенно одобряет строгий наряд леди Рассел через тщеславную критику Эллиотов: «отвратительный», слишком «формальный и аранжировочный», «если бы она только носила румяна». По мнению Остин, хороший вкус в одежде подобен вкусу Эдварда в пейзажах: «он объединяет красоту с пользой».
Хотя в некоторые моменты своего творчества Остин, кажется, готова предложить дарвиновское решение, она сохраняет устойчивую линию критики, основанной на представлении о том, что существуют более или менее естественные способы отношения к моде. Не каждый случай явного излишества вписывается в логику сексуального ухаживания, а ее презрение к экстравагантности выходит далеко за рамки возмущенного очарования Дарвина. Если Дарвин потрясен «чудесными крайностями» природы, то Остин, кажется, отталкивается от миссис Элтон, что несет в себе одновременно онтологический, эстетический и моральный смысл. Лишнее для нее действительно неестественно; оно взывает к презрению, и его роль в ухаживании не может полностью искупить его. Таким образом, внимание к ее отношению к моде усложняет представление об Остин как о жесткой натуралистке, освобождая место для более сложной интерпретации. Если орнамент может быть «неестественным», то существует возможность того, что существует за пределами естественного. Возможно, в ее творчестве есть элементы, которые выходят за рамки натуралистической картины или сопротивляются ей. Возможно, желанные Вульф «луны, горы и замки» в ее работах все-таки есть — просто они выглядят как грязный муслин.
При строгом натуралистическом прочтении утверждение о существовании более или менее естественных форм одежды парадоксально. Если не быть естественным, то чем может быть мода? Что еще существует? В книге «Если не мода, то что?» (2017) Николас Паппас предлагает упражнение, чтобы переформулировать этот вопрос:
[Если вы видите, что студент апеллирует к тому, что естественно, неплохо бы отстраниться от «природы» в этом искреннем призыве и поискать ее отсутствие. Что они противопоставляют «естественному»? Очки не являются предметами естественного происхождения, в смысле артефактами, и такие примеры заставляют естественное казаться противоположным искусственному. Но для вас также может быть неестественным просыпаться каждые полчаса; здесь то, что не является естественным, — это непривычное. Третий пример — черепаха, родившаяся с двумя головами, — может заставить вашего ученика увидеть противоположность естественному в виде ненормального или чудовищного. Такое упражнение ставит под сомнение то, что раньше выглядело железной апелляцией к естественному поведению. Когда «природа» отрицается столь разными способами, обвинения в «неестественности» звучат более двусмысленно, чем раньше.
Что именно Остин противопоставляет «естественному»? Можно рассмотреть первоначальное значение слова «мода»: глагол, означающий превращать что-то в другое; придумывать, изготавливать, создавать. Остен одобряет Елизавету, чьи «лицо, поведение и одежда» «без моды». Она не одобряет «заученную элегантность» миссис Элтон. Разделительная линия между естественным и неестественным отношением к одежде имеет отношение к аутентичности. Мода считается неаутентичной, в то время как отказ от моды — будь то отсутствие румян у леди Рассел или грязные юбки у Элизабет — аутентичен, а значит, естественен в смысле соответствия собственной природе.
Если мы прочитаем, что Остин использует понятие «естественный» как «подлинный», мы обнаружим непрерывный ряд способов взаимодействия со стилем. Существует множество способов, с помощью которых можно одеваться «неестественно», то есть ненатурально. Например, можно украсить себя излишними украшениями, которые ограничивают вашу способность двигаться и действовать, как обычно, как, например, платье миссис Аллен: «Но я думаю, нам лучше посидеть спокойно, потому что в такой толпе можно запутаться!». Брызги грязи на муслиновой юбке Элизабет в «Гордости и предубеждении» (так снисходительно изображенные в бесчисленных экранизациях) становятся наглядным способом противопоставить ее истинную свободную натуру искусственно навязанной и стесняющей.
Можно также отказаться от подлинного самовыражения ради подражания. Остин жалуется, что Масгроувы «теперь, как и тысячи других молодых леди, жили, чтобы быть модными». Это тоже неестественно в одном смысле, потому что отрывает девушек от их подлинной природы. Однако с другой стороны, более традиционно натуралистической, такое поведение является самым естественным. Это «стадный менталитет», животная функция ассимиляции. Для таких натуралистов, как Дарвин, этот тип подражательной неаутентичности представляет природу в ее наиболее тотализирующем виде, наше почтение к эволюционным моделям поведения, служащим половому отбору. При таком подходе сам отказ австенистских героинь от моды противоречит натуралистической логике. Аутентичность, идущая вразрез с подражательным стадом, становится в некотором роде «сверхъестественной», то есть выходящей за рамки естественного.
Это неестественное или, скорее, сверхъестественное отношение к одежде может быть местом подрывной деятельности, в манере трансценденции Беньямина. В редкие моменты выбор одежды становится средством самовыражения, способным противостоять приливам и отливам социальной экосистемы и выходить за рамки того, что считалось естественным. Дерзкое ношение грязного платья Элизабет — это акт эстетической автономии, модное заявление, такое же реальное, как и любое другое. Оно неестественно в том смысле, что бросает вызов стадной эволюции модных норм, и естественно в смысле подлинной автономии, реализованной через аутентичность ее собственной природе. Решение леди Рассел не пользоваться румянами поражает сэра Эллиота как неестественное; ее платье искусственно, потому что оно «формально и аранжировано». Знание мистером Тилни индийского муслина, столь редкое для мужчины, кажется Кэтрин противоречащим самой природе. Она останавливает себя, прежде чем проболтаться:
У Остин неестественное не всегда плохо, а естественное не всегда хорошо. Стоит отметить, что Остин писала в эпоху, когда садоводство было на подъеме, а флористы впервые открыли свои магазины в крупных городах. Как пишет литературовед Дейдра Шона Линч, «цветок флориста… был одновременно и реальностью, и вымыслом, и материалом природы — даром природы — и артефактом человеческой фантазии и фетишизма», так и Остен, похоже, предполагает, что мода одновременно и неразрывно связана с природой, и может противостоять ей. Она настаивает на противоречии, которое может сделать романист и, возможно, не может сделать естествоиспытатель вроде Дарвина. Сопротивляясь стремлению к разрешению, она держит в напряжении читателей, которым предстоит преодолеть это противоречие.
И Дарвин, и Остин — острые наблюдатели, чутко реагирующие на факты и не приемлющие сверхъестественных объяснений. И в то же время их объединяет навязчивый интерес к красоте, к ее обильному и даже избыточному присутствию в нашем мире и к тому, как она может угрожать натуралистическому мировоззрению. Их чтение рядом друг с другом обогащает наше понимание обоих. Любовь Дарвина к Остин освещает его глубокое увлечение эстетикой и его утверждение, что учет красоты является важной частью объяснения мира природы. Остен, прочитанная вместе с Дарвином, заставляет задуматься о контурах и, возможно, ограничениях ее натурализма. Настаивая на том, что с модой можно работать более или менее естественными способами, она сопротивляется дарвиновскому решению, не принимая полностью трансцендентность Беньямина. Эта напряженность между тотализирующим натурализмом и трансцендентной эстетикой орнамента пульсирует во всем ее творчестве, сохраняя вопросы, над которыми бились и она, и Дарвин, живыми и актуальными.
Оригинал: Aeon